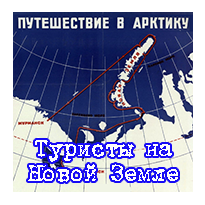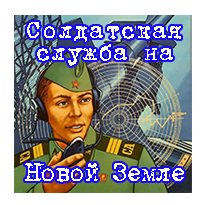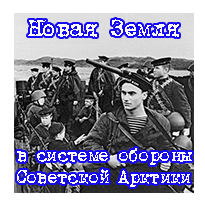Исследование Новой Земли

Мы видели, что человек познакомился с Новой Землей много лет назад. Иностранцы встретились с ней при своих попытках пройти северным путем в Китай, русские же промышляли у ее берегов зверя и гольца и, кроме того, интересовались ее полезными ископаемыми (серебром). Все до сих пор рассмотренные посещения Новой Земли не имели целью исследовать этот остров, и различные сведения о нем собирались мореплавателями только попутно.
Первой научно-исследовательской экспедицией на Новую Землю можно считать экспедицию под начальством "штурмана порутческого ранга" Федора Розмыслова в 1768-69 гг. История возникновения этой экспедиции такова.
В 1767 году шуеречанин Яков Чиракин рассказал о том, как он год назад промышлял у Новой Земли зверя и "тогдашним летом одним небольшим проливом в малом извозном карбасу оную Новую Землю проходил поперек насквозь на другое, называемое Карское море". О существовании Маточкина Шара (именно о нем и сообщал Чиракин) тогда знали только новоземельские промышленники, и поэтому понятно, что известие Чиракина заинтересовало архангельского губернатора Головцына, который считал необходимым исследовать этот пролив как возможный путь в Обь.
В это же время архангельский купец Бармин собирался послать на Новую Землю людей для разведок на серебро. Головцын вошел с Барминым в соглашение, в результате которого была организована экспедиция на Новую Землю; задачей ее ставились не только поиски серебра, но и описание и осмотр сысканного Чиракиным через Новую Землю пролива. Снарядить судно должен был Бармин.
 Визе Владимир Юльевич (1886–1954), полярный исследователь, член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Государственной премии. Участвовал в 14 арктических экспедициях, каждая из которых заняла достойное место в истории исследований Арктики. Назовем некоторые из них. Плавание на судне "Св. Фока" с двумя зимовками: с Георгием Седовым на Новой Земле (1912) и на Земле Франца-Иосифа (1914). Две экспедиции на ледокольном пароходе "Малыгин" (1928–1931), руководимые самим Визе. Рейсы на ледокольных пароходах "Г. Седов" и "А. Сибиряков" в 1929, 1930, 1932 и 1933 годах. Поход 1932 года стал первым в истории сквозным плаванием по Северному морскому пути за одну навигацию. За участие в этом рейсе Визе был награжден орденом Ленина. Владимир Юльевич внес огромный вклад в изучение природы Арктики и освоение Северного морского пути, создал научную школу в области морских ледовых прогнозов, разработал ряд теоретических проблем полярного мореплавания, изучал закономерности циркуляции атмосферы и ее роли в формировании ледового покрытия арктических морей. Здесь приведена глава из его книги "История исследования Советской Арктики. Баренцево и Карские моря" Севкрайгиз, Архангельск 1935 г. |
В инструкции, данной Розмыслову, предлагалось "осмотреть в тонкости, нет ли на Новой Земле каких руд и минералов, отличных и неординарных камней, хрусталя и иных каких курьезных вещей, соляных озер и тому подобного, и каких особливых ключей и вод, жемчужных раковин, и какие звери и птицы и в тамошних водах морские животные водятся, деревья и травы отменные и неординарные и тому подобных всякого рода любопытства достойных вещей и произращений натуральных". Розмыслов должен был также попытаться, в случае отсутствия льдов "вояж предпринять" из восточного устья Маточкина Шара в Обскую губу и "примечание сделать, не будет ли способов впредь испытать с того места воспринять путь в Северну Америку". Как видно, программа работ экспедиции была весьма обширна и по-своему объему мало уступала программам больших современных комплексных экспедиций. Все эти задания должен был выполнить один штурман, имевший знания только в области навигации.
В качестве пловучего средства Бармин дал Розмыслову, кочмару (трехмачтовое судно, поднимающее около 8 тонн груза), которая начала сильно течь уже по выходе в Белое море. Помощниками Розмыслова были назначены подштурман Губин и кормщик Чиракин.
К западному устью Маточкина Шара экспедиция прибыла только 25 августа, а у восточного выхода пролива она находилась 10 сентября. Карское море было свободно ото льдов, но на негодной кочмаре Розмыслов не решался выйти в открытое море: "Наше судно противными ветрами ходить весьма не обыкло; неспособность оного известна, и ничего доброго надеяться не можно". Так как опись пролива еще не была окончена, и Розмыслов все же надеялся совершить плавание по Карскому морю, отремонтировав кочмару, то было решено зазимовать в восточном устье Маточкина Шара. Одна изба, где устроился Розмыслов, была поставлена в бухте Тюленьей (в Белужьей губе (не смешивать с Белушьей губой на юго-западе Новой Земли)), другая на Дровяном мысу. Зимовка протекала в очень тяжелых условиях, и цынга начала свирепствовать уже с осени. 28 ноября умер Чиракин, затем цынга унесла еще несколько жертв. В июне Розмыслов окончил съемку Маточкина Шара и сейчас же приступил к ремонту кочмары. Гнилые места судна вырубали и заделывали глиной, смешанной со ржаными отрубями, тщательно конопатили, но и после этого "течь не весьма успокоилась". 13 августа Розмыслов вышел в Карское море уже больной, как и большая часть его команды.
На следующий день, в 33 милях от Новой Земли, льды преградили мореплавателям путь. "С верху мачты водяного проспекта не видно, — пишет Розмыслов в своем журнале, — между тем судно льдами повредило, и сделалась в нем немалая течь; чего для согласно положили, дабы с худым судном не привести всех к напрасной смерти, поворотить по способности ветра к проливу Маточкину Шару". Придя в западное устье Маточкина Шара, опять принялись за ремонт судна и стали замазывать обнаруженные сквозные дыры глиной и обшивать досками, впрочем, без успеха: "Наши глиняные пластыри водою размывает, и течь делалась прежняя, отчего пришли в немалое починки оной отчаяние". К счастью, в это время в Маточкин Шар пришло одно промысловое судно, кормщик которого предложил Розмыслову и его спутникам перейти на его судно. Розмыслов охотно принял это предложение, "ибо уже на утлом судне через обширность моря пускаться не можно, которое и по закону приговорено, что можно получить самовольную смерть и назваться убийцами". 19 сентября Розмыслов вместе с промышленниками прибыл в Архангельск.

Экспедиция Розмыслова произвела очень хорошую съемку Маточкина Шара и собрала некоторые сведения о природе Новой Земли. В течение всего пребывания в бухте Тюленьей Розмыслов вел регулярные наблюдения над погодой, которые до устройства обсерватории в Маточкином Шаре (1923 г.) являлись вместе с еще более старыми наблюдениями Баренца, единственным материалом для суждения о климате восточного берега Новой Земли. Через два года по возвращении из экспедиции Розмыслов утонул в Финском заливе при крушении гальота, на котором он служил.
Следующая русская экспедиция на Новую Землю была отправлена на средства государственного канцлера графа Н. П. Румянцева и имела целью разведку полезных ископаемых. Во главе экспедиции находился "горный чиновник" Лудлов, в распоряжение которого было дано одномачтовое судно "Пчела" (35 тонн) под командой штурмана Поспелова. Экспедиция вышла из Колы 11 июля 1807 года и, не встретив льда, но задержанная сильными встречными ветрами, 29 июля достигла Костина Шара. После осмотра острова Междушарского и некоторых других. "Пчела" направилась к западному входу в Маточкин Шар. Отсюда Лудлов ездил на карбасе в губу Серебрянку, но не обнаружил здесь, "ни малейшего вида серебряных руд", хотя и нашел кусок свинцового блеска, "во сте центнерах которого находился может быть золотник серебра". В районе западного устья Маточкина Шара были обнаружены сера и медный колчедан, причем Лудлов считал, что в случае возвышения цены на медь это месторождение может иметь практическое значение. Вообще он полагал, что, Новая Земля заслуживает "точнейших исследований минералических".
Мы видели, что плавания к Новой Земле с целью промысла производились уже издавна, между тем морских карт Новой Земли не существовало, если не считать карту Маточкина Шара. С целью пополнить этот пробел русское правительство снарядило в 1819 году экспедицию под начальством лейтенанта А. Лазарева, которой поручалось произвести опись всего южного острова Новой Земли, а также попытаться обойти ее северную оконечность.
Экспедиция эта, плававшая на конфискованном английском бриге "Кэтти", переименованном в "Новая Земля", окончилась полнейшей неудачей. Лазарев не сделал ни одной высадки на Новую Землю и, даже не начав съемки берега, созвал совет вахтенных офицеров, постановивший, — "плыть 21 августа в обратный путь". Почти вся команда судна была больна цынгой, появление которой Лазарев приписывал, "сырости и густоте атмосферы", а когда судно 15 сентября пришло в Архангельск, то "19 человек нижних чинов немедленно надлежало свезти в гошпиталь, три окончили жизнь еще до прибытия к порту". Позорный конец этой экспедиции объясняется, главным образом, бездарным ее руководством, и Норденшельд справедливо пишет, что "экспедиция под начальством такого человека должна была кончиться ничем".
Задание, не выполненное Лазаревым, было Морским министерством поручено лейтенанту Ф. П. Литке, который плавал к Новой Земле на специально выстроенном для экспедиции бриге "Новая Земля" (200 тонн) в течение четырех лет подряд (1821-24). Целью первого плавания (1821) было рекогносцировочное обследование берегов Новой Земли и установление длины Маточкина Шара (съемке Розмыслова почему-то мало доверяли). Литке первоначально отправился к югозападной части Новой Земли, но вследствие густых льдов не мог здесь приблизиться к берегу. Потратив на лавировку во льдах много времени, он пошел на север и 6 сентября достиг Машигиной губы. Входа в Маточкин Шар Литке не мог обнаружить и за поздним временем был вынужден вернуться в Архангельск, куда прибыл 23 сентября.
В следующем году (1822) Литке было поручено продолжать работу, причем инструкция предлагала, "постараться дойти до самой северной оконечности Новой Земли". 23 августа Литке думал, что достиг ее, но позже оказалось, что он ошибся, приняв за северную оконечность Новой Земли мыс Нассау (ошибка Литке объясняется тем, что у него, странным образом, не было с собой карты Баренца — единственной существовавшей в то время карты северной части Новой Земли). Съемка Маточкина Шара и на этот раз не была выполнена, и Литке ограничился астрономическим определением западного устья пролива. Описными работами была охвачена береговая линия Новой Земли от Гусиного носа до мыса Нассау.
В плавание 1823 года Литке, согласно инструкции, должен был проверить, действительно ли виденный им предшествующим летом мыс является северной оконечностью Новой Земли, в противном же случае дойти до нее. Кроме того, в программу работ входила опись Вайгача, Карских ворот и Югорского Шара, а также, если хватит времени, — опись восточного берега Новой Земли.
13 августа Литке был у мыса Нассау и, сравнив положение берега с картой Баренца, мог убедиться в своей прошлой ошибке. Пройти севернее мыса Нассау помешали льды. Встретив два года подряд на широте мыса Нассау льды, Литке пришел к слишком поспешному заключению, что, "ледяные массы, несомые из Сибирского океана, неиссякаемого льдов источника, не оставляют никогда северного берега Новой Земли... Не имея по сим причинам никакой надежды проникнуть до северо-восточной оконечности Новой Земли, нашелся я принужденным предпринять обратный путь к Маточкину Шару". Маточкин Шар на этот раз, наконец, был заснят с гребной шлюпки, причем оказалось, что длина его отличается от показанной на карте Розмыслова только на три мили.
Во время дальнейшего плавания бриг сел у западного входа в Карские Ворота на банку, которая по имени штурмана была названа банкой Прокофьева (на эту опасную банку суда впоследствии садились не раз, например, В 1920 году "Красин", тогда еще "Святогор"). "Удары стремительно следовали один за другим, — пишет Литке, — скоро вышибло руль из петли, сломало верхний его крюк и издребезжило всю корму; море вокруг судна покрылось обломками киля, несколько минут не теряли мы хода — наконец стали. Жестокость ударов усугубилась, и страшный треск всех членов брига заставлял ожидать каждую минуту, что он развалится на части". На сильно поврежденном судне Литке уже не решился вести опись Вайгача и идти в Карское море. 12 сентября бриг прибыл в Архангельск.
Так как Литке не удалось дойти до северной оконечности Новой Земли, то адмиралтейский департамент снова отправил экспедицию под его начальством в 1824 году. Литке предлагалось в этот раз описать также восточный берег Новой Земли и "сделать покушение к северу, на средине между Шпицбергеном и Новою Землею, для изведания, до какой степени широты возможно в сем месте проникнуть". Плавание 1824 года было однако, совсем неудачно, и поставленных задач Литке разрешить не удалось (как, впрочем, не удалось полностью осуществить программу и в предыдущие три экспедиции). Льды на этот раз воспрепятствовали дойти даже до мыса Нассау, а между Новой Землей и Шпицбергеном Литке удалось подняться только до параллели 76°05′N (на меридиане 42°15' Е). "Видя, что лед беспрерывно продолжается к западу и с каждой милею становится выше и плотнее, решился я оставить настоящее покушение, которое, по крайней мере в сем году, не обещало ни малейшего успеха". Неудачна была и попытка пройти через Карские ворота в Карское море.
Хотя Литке и не удалось за время его четырекратного плавания к Новой Земле обогнуть северную ее оконечность и посетить восточные берега, что составляло одну из задач, тем не менее его экспедиции дали ценные результаты, из которых главнейшим явилась опись западного берега Новой Земли — от южной ее оконечности до мыса Нассау. Составленная Литке карта западного берега Новой Земли (далеко не точная) в течение долгого времени служила (а для некоторых районов и сейчас еще служит) главным пособием для мореплавателей, направляющихся на Новую Землю. Литке собрал также материал по земному магнетизму и колебаниям уровня моря в районе Новой Земли. Дело описи Новой Земли, начатое Розмысловым и Литке, продолжал прапорщик корпуса флотских штурманов П. К. Пахтусов. Первая экспедиция Пахтусова в 1832-33 гг. была организована на средства ученого лесничего Клокова и архангельского купца Брандта. Экспедиция состояла из двух отрядов. Один отряд, под начальством лейтенанта Кротова, должен был на шхуне "Енисей" пройти через Маточкин Шар в Карское море и дальше к устью Енисея; второму отряду, под начальством Пахтусова, поручалась опись восточного берега южного острова Новой Земли, для чего служил одномачтовый карбас, "Новая Земля" (длиною 42 фута). Плавание шхуны "Енисей" окончилось печально: около западного устья Маточкина Шара она потерпела крушение, причем Кротов и вся команда погибли. Обстоятельства гибели шхуны остались невыясненными, — промышленниками позже было найдено только несколько ее обломков,
Отряд Пахтусова вышел из Архангельска 13 августа и, достигнув южных берегов Новой Земли, занялся их съемкой. Так как Пахтусову было ясно, что позднее время и большое количество льда не позволят ему произвести опись восточного берега, то он решил зазимовать. Местом зимовки была выбрана губа Каменка, где Пахтусов нашел остатки старой промысловой избы. При помощи собранного плавника участники экспедиции восстановили эту небольшую избу, сложили в ней из привезенных кирпичей печь и, кроме того, выстроили еще баню. Все постройки были закончены уже к 23 сентября, и Пахтусов с кондуктором Крапивиным и 7 человеками команды, состоявшей из промышленников, перебрались в избу. С этого времени Пахтусов начал вести регулярные метеорологические наблюдения — первые, сделанные на Новой Земле при помощи инструментов (термометра и барометра). Зима прошла благополучно, но уже в начале весны появились признаки цынги, от которой позже скончалось два человека.
В течение апреля и мая Пахтусов совершил большие экскурсии с целью съемки южного берега Новой Земли. Он и его спутники при этом очень страдали от снежной слепоты. Чтобы предохранить глаза от яркого света, они чернили себе сажей часть лица кругом глаз (темные очки — необходимый предмет снаряжения всякого полярного путешественника — тогда еще не были в употреблении в экспедициях).
6 июля Пахтусов покинул зимовье и на лодке отправился вдоль восточного берега Новой Земли на север. В небольшой бухте, названной им губой Саввиной, Пахтусов нашел крест с вырезанной на нем надписью, "Савва Ф...анов, 1742". Пахтусов был вполне уверен, что этот крест был поставлен Саввой Лошкиным, который когда-то обошел всю Новую Землю. Буквы "Ф...анов" Пахтусов принимал за отчество Лошкина Феофанов (впрочем, отчество Лошкина неизвестно). Так как вырезанный на кресте год (1742) не соответствует тому времени, к которому относят плавание Лошкина (1760), то трудно сказать, насколько Пахтусов был прав, приписывая найденный им крест Лошкину. Засняв около 150 километров береговой линии, Пахтусов вернулся к месту зимовки. Тем временем карбас уже был приготовлен к плаванию, и 23 июля зимовщики простились с губой Каменкой, где провели 297 дней, и поплыли вдоль восточного берега Новой Земли на север. Около полуострова Стодольского Пахтусов обнаружил небольшую развалившуюся избу, в которой некогда зимовал ненец Мавей. В 1823 году этот ненец вместе со своей семьей и родственником Воептой, обеднев вследствие падежа оленей, перебрался на Новую Землю, чтобы там промышлять зверя и диких оленей. Воепта еще осенью уехал обратно на материк, а Мавей с сыном и тремя женщинами остался зимовать.
Так как следующим летом Мавей на "Большой земле" не показывался, то Воепта отправился на Новую Землю проведать своего приятеля. "Придя к зимовью, пишет Пахтусов, он был поражен ужасным зрелищем: два женских трупа лежали в избе, подле них выделанная медвежья шкура, которой половина была съедена; на дворе, неподалеку от избы, лежали истлевшие трупы сына и внучки Мавея; самого же Мавея нигде не нашли. Несмотря на нестерпимый запах, Воепта предал земле тела несчастных своих родственников. Он полагал, что они умерли от угара или холода, цынготную же болезнь как постыдную между самоедами он отстранял от своих единоземцев".
24 августа Пахтусов достиг Маточкина Шара, закончив съемку всего восточного берега южного острова Новой Земли.
Так как из 6 человек экипажа к этому времени здоровых было только двое, то Пахтусов с горечью в сердце, — Карское море было свободно ото льдов, — решил отказаться от дальнейшей работы к северу от Маточкина Шара. "Мне было и жаль и совестно оставить берега, никем не осмотренные, — пишет он. — Пусть обвиняют меня в робости, но для исполнения своих, хотя и полезных намерений я не хотел быть виновником гибели моих спутников. Я решился на обратный путь". Вследствие низких мореходных качеств карбаса и тяжелого состояния, в котором находилась команда, Пахтусов направился не в Архангельск, а в устье Печоры. Едва не погибнув во время шторма около Болванского носа, Пахтусов прибыл в Пустозерск, откуда уже сухим путем доехал до Архангельска.
Успех экспедиции Пахтусова побудил Гидрографическое депо отправить под его начальством новую экспедицию, главной целью которой являлась опись остававшегося еще совершенно неизвестным восточного берега северного острова Новой Земли. В данной Пахтусову инструкции предлагалось также "попытаться, сколько позволят обстоятельства, проникнуть на восток и север от мыса Желания для осмотра, не имеется ли по сим направлениям каких-либо неведомых еще островов". Экспедиция имела в своем распоряжении небольшую шхуну "Кротов" (длиною 35 футов), которой командовал сам Пахтусов, и карбас "Казаков" (длиною 40 футов), командование которым находилось в руках помощника Пахтусова — кондуктора А. К. Цивольки.
Экспедиция покинула Архангельск 5 августа и 7 сентября прибыла к западному устью Маточкина Шара. Пройти этим проливом в Карское море не удалось, так как восточная его часть была забита льдом. Местом зимовки было выбрано устье реки Чиракиной у западного входа в Маточкин Шар. Участники экспедиции выстроили здесь избу и баню, для которых материалом служили привезенные с собой 40 бревен, а также остатки стоявших здесь трех промысловых изб и кочмары Розмыслова.
Зимою свирепствовали сильнейшие бури, во время которых, "часто случалось, что избу заносило до того, что место ее можно было узнать только по флюгеру на шесте, высотою до 6 сажен". Несмотря на принятые Пахтусовым меры против цынги, состоявшие в строгом и обязательном для всех режиме и улучшенном питании, она все же не миновала экспедицию и в феврале было уже шесть больных.
В марте Пахтусов и Циволька занялись описными работами. Пахтусов сделал съемку Маточкина Шара, которая оказалась "согласной с описью Розмыслова", Циволька же описал восточный берег Новой Земли на протяжении 160 км к северу от Маточкина Шара.
11 июля устье Маточкина Шара освободилось от льда, и на следующий день Пахтусов и Циволька с командой в 9 человек вышли на карбасе в море. В зимовье оставался фельдшер Чупов с двумя больными и одним здоровым. На Чупова было возложено продолжение метеорологических наблюдений, производившихся регулярно с самого начала зимовки через каждые два часа.
План Пахтусова состоял в том, чтобы обогнуть весь северный остров Новой Земли с запада на восток. Однако выполнить это не удалось, так как 21 июля карбас был раздавлен льдами у западного берега острова Берха, причем погибла часть провизии и снаряжения. Мыс, около которого приключилось несчастье, Пахтусов назвал мысом Крушения. Осматривая берег острова Берха, Пахтусов нашел здесь два ветхих карбаса, могилу, в которой, по его предположению, лежало до 15 покойников, и несколько крестов. Очевидно Пахтусов был не первый, кто попал в беду у негостеприимного берега этого острова.
31 июля к острову Берха случайно подошел промышленник Еремин, согласившийся отвезти Пахтусова и его спутников в Маточкин Шар. В ожидании попутных ветров Пахтусов и Циволька произвели съемку Горбовых и Крестовых островов. На одном из Горбовых островов (острове Личутине) были найдены две старые русские промысловые избы (основания этих срубов автор настоящих строк видел еще в 1913 году). Развалины избы были обнаружены также на острове Вильяма, а на одном из южных Крестовых островов Пахтусов нашел два опрокинутых карбаса и могилу. 13 августа подул, наконец, попутный ветер, и через 8 дней экспедиция прибыла в Маточкин Шар. Неудача, постигшая Пахтусова у острова Берха, не остановила, однако, его намерения дойти до мыса Желания. Уже через несколько дней по прибытии в Маточкин Шар Пахтусов отправился на взятом у промышленников карбасе к восточному. устью пролива и вышел в Карское море. Пользуясь узкой полосой чистой воды вдоль восточного берега северного острова Новой Земли, Пахтусов 4 сентября достиг группы островов, впоследствии названных его именем. Здесь, в широте 74°24′ N, он был вынужден повернуть обратно, так как дальше на севере лед вплотную примыкал к берегу. 13 сентября Пахтусов был в зимовье, а 19 октября вся экспедиция вернулась в Архангельск.

Еще во время крушения карбаса Пахтусов сильно простудился. В Архангельске здоровье его, подорванное тяжелой работой последних месяцев, продолжало ухудшаться, и 19 ноября (н. ст.) 1835 года он скончался в возрасте 36 лет. Пахтусов похоронен на кладбище в Соломбале. На скромном памятнике над его могилой высечена следующая надпись: "Корпуса штурманов подпоручик и кавалер Петр Кузьмич Пахтусов. Умер в 1835 году, ноября 7 дня. От роду 36 лет. От понесенных в походах трудов и д…. о... (вероятно "домашних огорчений"). В 1866 году Пахтусову был поставлен памятник в Кронштадте. Работа, проделанная на Новой Земле Пахтусовым, на которую правительством были отпущены только ничтожные средства, достойна удивления и восхищения.
После работ Литке и Пахтусова берега Новой Земли, за исключением северной и северо-восточной ее частей, были приближенно положены на карту. К всестороннему научному исследованию Новой Земли впервые приступила Академия Наук, отправившая в 1837 году экспедицию во главе с академиком К. Бэром, при участии естествоиспытателя Лемана и геолога Редера.
На Новую Землю экспедиция добралась на нам знакомой уже шхуне, Кротов", которой командовал Циволька. Экспедиция работала в районе Маточкина Шара и Костина Шара, собрав геологические, ботанические и зоологические коллекции. Благодаря работам этой экспедиции фауна и флора Новой Земли, по словам самого Бэра, сделались известными более, чем фауна и флора любой другой арктической земли, за исключением западной Гренландии. Между прочим, Бэр во время пребывания в западном устье Маточкина Шара устроил здесь небольшой опытный огород — первый на Новой Земле.
Нужно, однако, сказать, что экспедиция Бэра, кроме большой пользы, принесла и некоторый вред. Личное впечатление его о Новой Земле как о мрачной и мертвой пустыне стало, благодаря его авторитету, ходячим мнением, и в описаниях Новой Земли нередко можно встретить напыщенные фразы Бэра: "Неизъяснимая грусть овладевает душою всякого человека, даже грубого матроса, при взгляде на эти обнаженные области... Мне казалось, что настало утро сотворения мира, и юная земля, только что отделившаяся от вод, не успела еще одеться в свои пестрые и зеленые ткани и ожидала прибытия жизни". Мнение Бэра о Карском море, как "о ледяном погребе" тоже стало ходячим и, неправильно истолковывавшееся, надолго создало представление о недоступности этого моря. Когда в начале 70-х годов прошлого века норвежские промышленники совершили целый ряд удачных плаваний по Карскому морю, Бэр подвергался за свой ледяной погреб жестоким нападкам со стороны ученых, которые обвиняли его в "географическом обмане". Свое мнение о трудной доступности Карского моря Бэр основывал, главным образом, на выводах Литке, который, как председатель Русского географического общества, также пользовался большим авторитетом. Известный русский гидрограф А. Вилькицкий впоследствии справедливо указывал на то, что мнение. Литке немало задержало практическое разрешение вопроса о северном морском пути в западную Сибирь.
Так как Пахтусов в 1835 году не мог дойти до северной оконечности Новой Земли вследствие крушения его карбаса, то Гидрографический департамент снарядил в 1838 году еще одну экспедицию, которая должна была закончить опись Новой Земли, положив на карту ее северные и северо-восточные бе рега, а также составить подробные планы некоторых заливов и бухт.
Экспедиция, во главе которой стоял Циволька, вышла из Архангельска на двух специально выстроенных шхунах, "Новая Земля" и "Шпицберген" (каждая длиной в 39 футов). Местом зимовки была выбрана Мелкая губа (к северу от западного устья Маточкина Шара), куда экспедиция и прибыла в августе 1838 года. Здесь были выстроены две избы, в большей из них поместился Циволька с командой, а в меньшей его помощник прапорщик Моисеев и два кондуктора.
Как и во время обеих зимовок Пахтусова, цынга показалась уже к концу зимы, притом в тяжелой форме. 14 февраля от этой болезни скончался первый матрос. Сам Циволька был тоже тяжело болен какой-то грудной болезнью, повидимому, осложненной той же цынгой, и 28 марта (н. ст.) он скончался. С наступлением весны цынга усилилась, и от нее умерло еще 8 человек. Над могилой умерших Моисеев поставил крест, на котором вырезал следующую надпись:
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ПРАХ Н. Э. К. Ф. Ш.* ПРАПОРЩИК ЦИВОЛЬКА ОКОНЧИЛ СВОЮ ЖИЗНЬ МАРТА 16 ДНЯ 1839 ГОДА. И ЕЩЕ 8 ЧЕЛОВЕК УМЕРЛО ВО ВРЕМЯ ЗИМОВКИ ОТ ЦИНГОТНОЙ БОЛЕЗНИ ИЗ СЛУЖИТЕЛЕЙ. КРЕСТ ПОСТАВЛЕН К. Ф. Ш. ПРАПОРЩИКОМ МОИСЕЕВЫМ.
*Очевидно "начальника экспедиции корпуса флотских штурманов".
Этот крест стоит в Мелкой губе и сейчас.
Летом Моисеев сделал попытку пройти на карбасе до северной оконечности Новой Земли, но из-за льдов мог дойти только до мыса Литке. Главная задача экспедиции осталась, таким образом, не выполненной, и работы ее ограничились съемкой ряда заливов на западном берегу Новой Земли.
После экспедиции Цивольки в 1838-39 гг. царское правительство отказалось от всяких попыток исследовать и картировать северную часть Новой Земли, и эта работа была выполнена частью норвежскими промышленниками, частью русскими экспедициями, снаряженными на частные средства.
В 1869 году, очень благоприятном по состоянию льдов в Карском море, несколько норвежских промышленников совершили замечательные плавания по этому морю. В следующем году, также весьма благоприятном в ледовом отношении, норвежскому промышленнику Эдуарду Иоганнесену удалось обогнуть всю Новую Землю — впервые после Саввы Лошкина. На севере Новой Земли Иоганнесен произвел с судна опись берегов, причем северная часть Новой Земли получила совсем иную форму, чем до того имела на картах.
В 1871 году ту же часть Новой Земли снова посетило несколько норвежских промышленников, в том числе Иоганнесен, Мак, Тобисен и Карлсен. Попутно они продолжали начатую в предшествующем году Иоганнесеном опись берегов, и на основании их работ норвежский ученый Мон составил карту северной части Новой Земли. Съемки норвежцев вскоре были включены во все морские карты Новой Земли. Только после революции Гидрографическое управление СССР издало новую карту этого острова, на которой менее точная опись норвежских промышленников была заменена съемками, сделанными экспедицией Г. Я. Седова В 1912-13 гг. и Гидрографической экспедицией в 1921 году. У читателя может возникнуть вопрос: отчего же норвежским промышленникам удалось выполнить то, что тщетно пытались сделать Литке, Пахтусов, Циволька и Моисеев? Объяснение нужно искать в тех громадных колебаниях, которым подвержено состояние льдов в Баренцовом и Карском морях. Русские мореплаватели 20-х и 30-х годов прошлого столетия попали в неблагоприятный ледовый период, норвежцам же посчастливилось побывать на севере Новой Земли и Карского моря в благоприятные годы. О существовании больших колебаний ледовитости арктических морей раньше почти не знали, и поэтому мореплаватели, попадавшие на север в тяжелый ледовый год, считали такие условия нормальными и возвращались с пессимистическим взглядом на возможности мореплавания; наоборот, плавания норвежцев, совершонные в очень благоприятные годы, привели многих к убеждению, что Карское море не представляет никаких затруднений для мореплавания. И тот и другой взгляды скороспелые заключения, одинаково вредные для развития судоходства в арктических водах.
В ошибку — делать выводы о ледовом режиме моря на основании наблюдений только за небольшое число лет впадали как мореплаватели, так и ученые. Так, например, известный немецкий географ Пешель, после удачных плаваний норвежцев, писал, захлебываясь от восторга: "Все, что до сих пор было нам сообщено о Новой Земле и о Карском море, оказывается грубой и постыдной мистификацией. Недоступность Карского моря — чистый вымысел, оно может служить для рыболовства, но не ледником".
Для нас эти крайние мнения, высказывавшиеся в свое время относительно доступности северной части Новой Земли и Карского моря, являются весьма поучительными, особенно в настоящее время, когда мы широко эксплоатируем морской путь через Карское море. Ни на минуту мы не должны забывать, что, с самого открытия при советской власти операций в Карском море, последние протекают в весьма благоприятной ледовой обстановке. Не подлежит никакому сомнению, что рано или поздно этот период благоприятного состояния льдов, продолжающийся уже около 15 лет, окончится, и наступят условия более тяжелые, которые, конечно, не сделают плавания по Карскому морю невозможным, но потребуют значительного напряжения сил.
Уже в следующем году (1872) после удачных плаваний норвежцев Арктика показала себя с совершенно другой стороны. Австрийское исследовательское судно "Тегеттгоф", с судьбой которого мы познакомимся ниже, было заперто льдами у северо-западных берегов Новой Земли, а норвежское судно промышленника Тобисена застряло во льдах у Крестовых островов. Когда Тобисену и его спутникам стало ясным, что изо льдов им не выбраться, 7 человек покинуло судно с целью отыскать на юге Новой Земли какое-нибудь судно и вернуться на нем домой. Так как на судне продовольствия было очень мало, то отправлявшиеся в далекий путь могли захватить с собой только очень немного: у них имелось 14 сушеных хлебов, 6 коробок спичек, два ружья, кофейник, котелок и подзорная труба. Прежде чем дойти до открытой воды, они должны были на протяжении семи километров тащить лодку по льду.
Втечение трех недель, питаясь убитыми двумя тюленями и одним медведем, они плыли вдоль берега Новой Земли, пока не дошли до Гусиной Земли, отстоящей от Крестовых островов приблизительно на 400 км. Здесь они нашли две покинутые русские избы, гле решили отдохнуть, так как все были уже сильно изнурены, а у некоторых были отморожены ноги. Вначале охота была удачная, но потом зверь исчез. Тогда матросы отправились дальше на юг, бросив шлюпку и взяв вместо нее найденные у изб нарты.
Вскоре поднялась метель, во время которой два матроса отстали. По обычаю норвежских зверобоев, бросили жребий — продолжать ли путь дальше или же вернуться к избам, куда, может быть, добрались два отставших товарища. Жребий решил продолжать путь. Положение путников ухудшалось с каждым днем, так как провизия была уже наисходе, мороз и ветер крепчали, а теплой одежды ни у кого не было. По ночам матросы зарывались в снег, оставляя одного караулить.
Пройдя по берегу около 100 км и потеряв еще одного то варища, они, наконец, наткнулись на семью ненцев, промышлявших у южного берега Гусиной Земли. Ненцы оказали несчастным полное гостеприимство и дали им меховую одежду и пищу. Здесь матросы провели всю зиму, помогая ненцам в промысле.
Между тем отставшим во время метели двум матросам посчастливилось найти покинутые избы, где они и зазимовали. До декабря никакой охоты не было, и матросы питались кожей и костями, которые находили около изб под снегом. Весною они отправились пешком вдоль берега на юг и набрели на ненецкие чумы, где жили их товарищи. В июне матросы, за исключением одного, решившего остаться у ненцев, пошли к оставленной ими в 100 км к северу лодке и на ней добрались до Вайгача, где случайно встретили судно. Оставшийся у ненцев матрос вернулся в Норвегию через два года.
Группу из четырех человек, оставшуюся у судна и зимовавшую на острове Большом Заячьем, постигла более печальная участь. Тобисен умер от цынги в мае 1873 года, а в июле от той же болезни скончался его сын. Два матроса отправились летом на шлюпке к югу и в конце сентября случайно встретили русское промысловое судно, доставившее их в Архангельск.
Во время зимовки Тобисен очень акуратно вел метеорологические наблюдения, которые до работ экспедиции Г. Я. Седова (1912-13) оставались единственным материалом для суждения о климате северозападной части Новой Земли. Вклад в познание климата Новой Земли был сделан также норвежским промышленником капитаном Х. Бьерканом, производившим метеорологические наблюдения во время зимовки в Малых Кармакулах в 1876-77 гг.