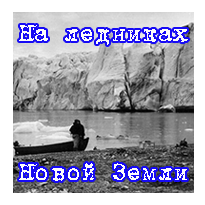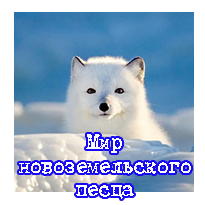Новая Земля летом 1900 года

Летом 1900 года Б. Житков и С. Бутурлин совершили ознакомительную поездку по Русскому Северу, посетив в т.ч. Новую Землю. По результатам поездки они опубликовали отчет "По северу России", глава из которого приведена ниже.
Подняв якорь в час дня 15 июля, мы вышли из Бугринского становища и взяли курс на Южный Гусиный нос. Мёртвая зыбь встретила нас в открытом море; ветер стихал ещё с раннего утра, и стало тихо. 16-го утром мы увидели тёмные, скалистые, но не очень высокие в этом месте берега Новой Земли, а в 10 часов утра "Владимир" вошёл в Белушью губу и бросил якорь саженях в 150 от берега, напротив зданий расположенного на берегу самоедского становища. Самоеды приветствовали нас с берега выстрелами из винтовок, а сразу после отдачи якоря самоедские карбасы и маленькие озёрные лодки окружили пароход, и несколько самоедов поднялись по спущенному трапу на палубу.
Становище в Белушьей губе, самое южное из всех поселений самоедов-колонистов на Новой Земле, основано в 1897 году, значительно позже двух остальных в Кармакулах и Маточкином Шаре. Некоторые из колонистов-самоедов жили здесь и раньше в чумах, но только в 1897 году здесь была поставлена промысловая изба, и начал дважды в год заходить сюда пароход, принимающий промыслы и доставляющий самоедам всё необходимое для жизни.
Самоеды-колонисты уже около 30 лет живут оседло на Новой Земле, и история колонизации этого острова, прежде считавшегося совершенно неприспособленным для жизни на нём и посещаемого только летом партиями промышленников, в кратких чертах такова. Вследствие нередких у берегов Новой Земли крушений промысловых судов, следствием которых являлись вынужденные зимовки на острове партий промышленников, которые иногда поголовно вымирали от лишений и цинги, Обществом спасания на водах в 1877 году устроен в заливе Моллера в становище Малые Кармакулы спасательный приют, состоящий из хорошей избы, амбара с припасами и бани. Тогда же для охраны построек и с целью организовать на Новой Земле правильный зимний звериный промысел были переселены из Мезенского уезда на Новую Землю пять чумов самоедов в числе 24 человек. Самоеды эти согласились промышлять на Новой Земле и были снабжены одеждой, топливом, съестными припасами, оружием и вообще всем необходимым для жизни и промыслов. Штурман Тягин, устроивший спасательную станцию и колонистов на острове и проведший с ними первую зиму, встретил в заливе Моллера еще 2 чума самоедов, переселившихся на остров для промысла зверя по предложению одного из печорских промышленников и проведших на Новой Земле уже несколько лет. Самоеды эти также были включены в число колонистов, численность которых достигла 35 человек. После устройства колонии один из пароходов Мурманского общества начал совершать ежегодные рейсы на Новую Землю для снабжения самоедов припасами и для принятия от них результатов их промыслов. Позднее колонисты перешли в ведение Архангельского губернатора, которым назначается специальный чиновник для заведования Новоземельскими промыслами. До 1894 года на острове числилось 50 самоедов, а в этом году Архангельским губернатором А. П. Энгельгардтом доставлено на Новую Землю еще 8 семейств в числе 37 человек. Мало-Кармакульское становище сильно увеличилось и стало целым маленьким поселком; было основано второе становище в западном устье Маточкина Шара и, наконец, третье — в Белушьей губе. Кроме того, с самого начала организации промыслов отдельные семьи самоедов проживали в чумах в Гусиной Земле, на Карском море и других местах южного острова — там, где надеялись на более богатые промыслы. В настоящее время самоедов зимует ежегодно 80-100 человек, и пароход, посещающий в каждый рейс все три становища, ходит на Новую Землю дважды в лето — в июле и сентябре.
Новоземельские самоеды вовсе не держат оленей, так как разбросанность оленьих пастбищ на острове делает пастьбу оленей затруднительной. Все колонисты заняты исключительно промыслами зверя, причем первое место по своему промысловому значению занимает медведь, потом нерпа и олени. Шкуры и сало зверей, добытых за зиму (а в последние годы и рыбы гольца), принимаются из становищ пароходом и продаются в Архангельске. Такой порядок спасает самоедов от эксплуатации их скупщиками и позволяет им выручать за продаваемые предметы значительно большую цену по сравнению с ценой, по которой продаются шкуры, сало и прочее самоедами Югорского Шара, Колгуева и других местностей восточной части Архангельского побережья. Из вырученной от продажи промыслов суммы покрываются расходы по содержанию колонии и отчисляется, кроме того, 10% на образование запасного капитала для удовлетворения различных нужд по колонизации острова вообще. Остальные деньги поступают в распоряжение самоедов, которые большую часть денег обычно держат в сберегательной кассе в Архангельске. В пятилетие с 1891 по 1895 год самоедские промыслы дали 20861 рубль, истрачено же было на содержание колонии 13677 рублей.

Сбережения отдельных колонистов достигают 600, даже 1000 рублей; в то же время есть и такие, которые далеко еще не окупили расходов по переселению и содержанию на острове. Обыкновенно во время июльского рейса парохода самоеды, сдавая промыслы, поручают заведующему колонией А. М. Макарову сделать нужные им покупки: платье, ружья, вещи домашнего обихода; раз один из самоедов поручил купить и привезти на остров избу, которая и в настоящее время находится в Кармакулах. Покупки эти привозятся пароходом в осенний рейс, когда доставляются и запасы на зиму, топливо и прочее. Нередко и некоторые из самоедов ездят на лето в Архангельск.
Материальное положение большинства колонистов очень хорошо. Большинство семейств имеет самовары, чайную посуду, некоторые даже запасное "немецкое" платье. В праздник пиджак на Новой Земле — не редкость. Все промышленники вооружены берданками драгунского образца; некоторые имеют, кроме того, еще и норвежские ремингтоны, — тяжелые и грубые с виду, но хорошо выверенные карабины калибра около 450, которые самоеды очень ценят. Не только мужчины, но и женщины хорошо говорят по-русски. В Кармакулах при церкви, выстроенной в 1888 году, есть школа для самоедских детей, живут монах священник, псаломщик и фельдшер. Число отдельных зданий в Кармакульском становище, включая метеорологическую будку, равняется десяти.
В становище Белушьей губы, основанном только 3 года тому назад, пока только одна изба. Близ нее во время нашего пребывания в становище стояло 2 самоедских чума. Самая Белушья губа, представляющая довольно удобную стоянку для судов, подробно исследована, и в ней произведены промеры только в 1896 году офицерами транспорта "Самоед". Представляя по форме своей приблизительно треугольник, губа лежит в самой северной части Костина Шара, вдаваясь с юга в берег Гусиной земли. К юго-востоку от Белушьей губы Костин Шар образует глубоко вдающийся на ONO в сушу залив Рогачева, устье которого достигает 6 верст.
Через полчаса после остановки парохода мы были уже на берегу, где были встречены целой стаей собак, которые употребляются самоедами для переездов и перевозки тяжестей по острову. Собаки самоедам доставляют из Архангельска, и они очень различны по складу и цвету. Общим признаком является только густая и длинная шерсть, которую довольно быстро приобретают все привезенные сюда собаки. Среди собак немало и типичных лаек лесных охотничьих различного цвета и белых оленных из Большеземельской тундры. Все собаки хорошо служат и в качестве упряжных животных, и при охоте на медведей. Кормят их мясом промышляемых зверей, а специально для собак в Кармакулах на птичьих базарах ловят гагарок (Uria brünnichi).
Осмотрев становище, мы предприняли экскурсию в северо-восточном направлении внутрь Гусиной земли. Перед нами на О к заливу Рогачева и на N простиралась плоская равнина, местами представлявшая ряды низких и довольно правильных куполообразных холмов. Почва состояла из слоев глинистого сланца, поверхность была покрыта мелким сланцевым щебнем. Такой же щебень, только обкатанный действием волн, покрывает и берега Белушьей губы. Местами из слоя щебня выглядывали слои сланцев, поставленные на головы. Вглубь Гусиной земли показывалось все большее количество мест с небольшими количествами наносной почвы. На этих местах растительность была богаче, была заметна зелень от присутствия мхов, злаков и выглядывавших из мхов листьев стелющихся по земле ив и карликовой березы (Betula nana); цветы также разрастались здесь пышнее. Но и на обнаженном сланце, вырастая из щелей его, по-видимому при полном отсутствии наносной почвы, безпрестанно попадались на глаза группы ярких цветов, особенно синих незабудок (Myosotis alpestris), розовых Silene acaulis, белых звездчаток (Stellaria) и др., почти совершенно лишенных листьев, с очень короткими стеблями и росших так тесно, что цветы эти образуют как бы букеты, ярко выступающие на темном фоне покрытой сланцем почвы.
Верстах в 15-20 от берегов Белушьей губы, восточнее конца залива Рогачева, с NNO на SSW, тянется невысокий (на глаз не выше 150-200 метров) хребет. Приблизительно на середине протяжения залива Рогачева хребет этот несколько поворачивает на SW, постепенно сливаясь со скалистыми восточными берегами залива Рогачева. За крайним хребтом, ограничивающим низкую равнину Гусиной земли, уходящую из глаз на север, виднеются другие хребты, идущие приблизительно параллельно первому. Самый западный хребет образует, очевидно, границу между высокими центральными частями острова и низкой Гусиной землей, — равниной, суживающейся к югу и постепенно исчезающей у залива Рогачева и расширяющейся к северу, простираясь приблизительно до Гусиного становища (в южной части залива Моллера). В Белушьем становище и позднее в Кармакулах я собрал некоторые сведения о внутренних частях Гусиной земли, которую посещали многие самоеды, охотясь за оленями и переезжая из Белушьей губы в Кармакулы.
Самоеды описывают Гусиную землю как ровную и низкую равнину, во многих местах сравнительно очень обильную наносной почвой, а потому и покрытую гораздо более богатой растительностью, чем другие части Новой земли. По словам самоедов, в некоторых частях Гусиной земли почва (особенно на сырых болотистых местах) покрыта такой густой травой, что образуются как бы настоящие луга, протянувшиеся местами на большое пространство. Обилие растительности и пресных вод привлекает в Гусиную землю оленей и множество водяных птиц, особенно гусей (Anser segetum, A. albifrons, Bernicla brenta), населяющих пресные озера внутри страны. Гусиную землю прорезывают четыре небольшие речки — Саучиха, Подрезиха, Сивучиха и самая северная Гусиная, вытекающая из большого соленого озера. Внутри Гусиной земли есть также большие пресные озера, в которых водится рыба (по-видимому, какой-то вид сига). Протяженность низменности в Гусиной земле с юга на север около 100 верст, с запада на восток от берега океана до хребта, ограничивающего высокое центральное плато, 35-40 верст.
День, который мы провели в южной части Гусиной земли, на берегах и вблизи берегов залива Рогачева, был из тех дней, которые выпадают редко на берегах туманной, бурной и холодной Новой Земли. Небо было ясно, и при полном безветрии и чрезвычайной прозрачности воздуха даль была видна на громадном протяжении. В щелях крутых берегов, на склонах и местами на горах лежало еще много снега, и повсюду бежали ручьи, впадавшие в небольшие озера, стоявшие в котловинах, или во врезавшиеся с моря заводи. В заливе Рогачева вода оказалась очень сильно опресненной снеговыми водами. Весь пейзаж вокруг, в это уже позднее для более умеренных широт лето (в середине июля), напоминал картину ранней весны в средней России, — когда земля еще гола, и солнце сгоняет последний снег с полей. Однако растительность там, где она ютилась на обнаженной почве, — была уже в полном цвету, и птенцы, очень многочисленных здесь всюду и чрезвычайно оживлявших пейзаж своим перепархиванием и щебетанием, воробьиных птиц —рюмов (Otocoris alpestris) и снежных пуночек (Plectrophanes nivalis) — уже летали. Мертвая тишина, только изредка прерываемая далеким гоготанием гусей на заливах или плеском ручьев, которые мы миновали, царила над всей страной и вместе с пустынностью и дикостью окружающих видов, скалистых берегов, темных горных цепей и обширной каменистой равнины — производила совершенно особенное, но не гнетущее впечатление. Невольно вспоминалось здесь замечание Бэра, лучше всего, по моему мнению, определившего это впечатление словами: „Es hat durchaus nichts Beängstigendes, sondern etwas Feierliches und Erhebendes und kann nur mit dem mächtigen Eindrucke verglichen werden, den der Besuch von Alpenhöhen auf immer zurücklässt. Ich konnte die einmal aufgetauchte Vorstellung, als ob der Schöpfungsmorgen erst angebrochen sey und das Leben noch folgen sollte, nicht wieder unterdrücken". „Утро творения" — ничего более подходящего нельзя придумать для определения этих картин природы — горных цепей, диких скал и темной равнины с слабыми зачатками растительности и почти незаметными проявлениями животной жизни.

В первую половину дня, при ярком солнечном свете, воздух был чрезвычайно прозрачен, и глаз обманывался при определении расстояний предметов, которые казались ближе, чем они были на самом деле. К вечеру даль застлалась дымкой, через которую были едва видны дальние цепи гор. Но это не был туман, и явление походило на ту „помоху“, которая бывает иногда в средней России при продолжительной жаркой погоде.
По окончании выгрузки привезенных для самоедов вещей и приемки на борт от промышленников шкур, сала, гольца и иных предметов промысла, добытых самоедами истекшей зимой, пароход поднял якорь в 9 часов вечера и взял курс сначала на WNW, потом на N вдоль берегов Гусиной земли в расстоянии 15 миль от берега. В 2 часа ночи курс изменили на NO, а в 7 часов утра, на траверзе Кармакульского острова на О, обходя остров с севера, и 17-го июля в 9 часов утра бросили якорь на Приютском рейде в 50 саженях от берега.
Кармакульское становище, расположенное на довольно низком берегу окруженного островами и хорошо защищенного от ветров рейда, в настоящее время представляет собой целый поселок, состоящий из десяти отдельных зданий. Здания эти следующие: 1) церковь, 2) дом причта в 5 комнат, 3) баня, 4) дом фельдшера со складом припасов, 5) дом в 2 самоедских избы, 6) то же с отделением для бани, 7) изба самоеда Прокопия Ледкова, 8) и 9) амбары для припасов и для промыслов, и 10) метеорологическая будка. Построенная в 1888 году Кармакульская церковь не очень мала и очень чиста и красива внутри. На средства, отпущенные Синодом, рядом с церковью в 1894 году был выстроен поместительный дом для причта, состоящего из иеромонаха и псаломщика. Причт живет в Кармакулах круглый год и присылается Никольским монастырем, скитом которого считается Кармакульский поселок. С 1888 по 1899 год на Новой земле пробыл иеромонах Иона, уезжавший в Архангельск только на 2 зимы: в 1892-93 году, когда в Кармакулах зимовал иеромонах Варахиил, умерший 15 июля 1893 года от цинги, и в 1896-97 году, когда зимовал иеромонах Гурий. Зимой 1899—1900 года в Кармакулах зимовал иеромонах Дорофей, оставшийся и на зиму 1900-1901 года. Кроме того, в Кармакулах уже 5 лет, уезжая только на 2 летних месяца в Архангельск, живет фельдшер П. Я. Виноградов, заведующий складом припасов в Кармакулах. П. Я. Виноградов хороший охотник и в свободное время промышляет на Новой Земле наравне с самоедами. Я обязан ему многими сведениями о жизни самоедов и о их промыслах. Остальные здания поселка также поместительны и содержатся в порядке. Метеорологическая будка построена академической экспедицией, приезжавшей для наблюдения солнечного затмения 1896 года, взамен старой будки, построенной еще Тягиным в 1877 году.

Кармакульская гавань образована несколькими островами, из которых самый большой изрезанный заливами Кармакульский остров достигает трех верст в длину. Берега островов частью пологи, частью поднимаются из моря совершенно отвесными высокими обрывами, состоящими из горизонтально лежащих слоев темных глинистых сланцев. На таких обрывах гнездятся многочисленные колонии гагарок (Uris brünnichi), в безчисленном множестве населяющих окрестности Мало-Кармакульского становища. Колонии эти, которые называются на севере „базарами“, и некоторые из которых мы осмотрели, будут описаны подробно в главе о птицах Новой Земли. Я замечу здесь только, что птицы эти поражают наблюдателя столько же своей численностью, сколько и доверчивостью по отношению к человеку. По имени этих „базаров“ назван „Базарным“ и один из островов, расположенный близ северного входа в Мало-Кармакульскую гавань и высоко подымающий из моря свои совершенно отвесные черные стены. Самоеды ловят гагарок летом на корм собакам, употребляя для этой цели особый аркан-шест с веревочной петлей на конце. Лежа на верху над обрывом охотник опускает вниз свое оружие и надевает петлю на шею сидящих на уступах скал птиц, вытаскивая их одну за другой наверх.
Берега самой Новой Земли близ становища пологи. Только в трех верстах от берега начинается горный хребет, ограничивающий прибрежную низменность, на которой расположен поселок. Далее вглубь Новой Земли идет уже горная страна, частью известная здесь благодаря экспедиции Ф. Н. Чернышева, перешедшего летом 1895 года поперек Новую Землю до Карского моря, и академической экспедиции 1896 года, проникшей на 40 верст к востоку от Малых Кармакул. В окрестностях Кармакул горы не высоки, не достигают 200 метров высотой. Горная область имеет чрезвычайно дикий и неприветливый вид. Пласты темных глинистых сланцев, то горизонтальные, то поставленные на голову, то лежащие под углом к горизонту громоздятся неровными выветрившимися уступами. Кое-где попадаются и слои кварца. На горах нет и признаков растительности, которая ютится только у их подножья. Кругом шумят ручьи, местами образующие водопады, бегущие через камни по уступам скал. В щелях, во время нашего пребывания здесь, во многих местах лежал еще снег, таяние которого и питало бежавшие ручьи.
На низкой сравнительно площади, окружающей становище, и сплошь покрытой сланцевым щебнем, растительность довольно разнообразна. Особенно пышно разрастаются цветы местами у самого становища, там где есть небольшие количества наносной почвы, состоящей из тех же сланцев, измельченных действием воды и воздуха и удобряемой вследствие близости людей и собак и гниения выбрасываемых частей убитых животных. На таких местах большинство растений — мак (Papaver nudicaule L.), лютики, незабудки и др. — крупнее и часто растут на более высоких стеблях, выше поднимаясь над поверхностью почвы. В болотистых местах небольшой котловины, расположенной за становищем, кое-где есть пространства, покрытые дерном от сплошь сидящих злаков и осок. Такой дернообразный покров, гораздо лучше развитый и имевший значительное протяжение, мы нашли после в долине реки Маточки в Маточкином Шаре.

Насекомых вблизи Кармакул попалось на глаза очень немного; не было даже комаров. Не заметили мы также и пеструшек (Myodes), которых, по словам самоедов, было очень много летом 1899 года. По словам самоедов же, в окрестностях Кармакул зимой 1899—1900 года было особенно много оленей, подходивших часто к самому становищу. В эту же зиму были замечены в становище мышь (Mus musculus) и оба вида тараканов (Blatta germanica и Periplaneta orientalis), вероятно, завезенные пароходом. И мышь, и тараканы довольно скоро исчезли. В становище мы застали 6 уже довольно больших медвежат, взятых зимой при убитых медведицах, доставленных самоедами в Кармакулы и погруженных теперь на пароход для продажи их в Архангельске. Медвежата добываются самоедами в большем или меньшем числе почти ежегодно, и обычно продаются в Архангельске живыми по 25-30 руб. за штуку.
В Кармакулах летом живет обычно не более 3 семейств самоедов, между тем как зимой бывает до 10 семейств. Остальные самоеды кочуют в различных частях острова в Гусиной земле, в Маточкином Шаре и на берегах Карского моря. Часть их (2-3 чума) остается на Карском море и по зимам, привлекаемые обилием морского зверя и медведей. И новоземельские колонии — Белушья губа, Кармакулы и Маточкин Шар между собой, и самоедские чумы на Карском море с становищами на западном берегу, в случае надобности, сообщаются на собаках. Через Гусиную землю из Кармакул в Белушью губу самоеды переезжают, следуя вдоль подошвы хребта, ограничивающего низменность с востока. Этот путь труден только от Кармакул до Корельской губы, где приходится идти горами. При переходах на Карское море самоеды пользуются долинами рек, проходя или тем путем, которым прошел Чернышев в 1895 году, или в восточной части пути, держась несколько севернее, пересекая реку Абросимову и выходя на Карское море севернее устья реки Ершовой. Самоеды переходили остров также на широте Корельской губы и Белушьей губы. Путь от Кармакул до Карского моря зимой сделали также на собаках — по их словам, без всяких затруднений иеромонах Дорофей и фельдшер Виноградов. Последний говорил мне, что, находясь в феврале на берегах Карского моря близ устья реки Ершовой, он видел припой льда у берегов верст в 6 шириною, за которым следовал свободный канал шириною более десяти верст. За каналом начинался тяжелый лед.

При переездах зимой по острову на упряжку в 10 штук собак грузят до 25 пудов; летом та же упряжка не всюду сможет везти более 3-4 пудов. Для переездов и перевозок грузов самоеды употребляют небольшие и очень легкие нарты, немного похожие на детские салазки, как их делают в деревнях приволжских губерний.
Посетив сперва Кармакульский остров с его птичьими базарами, а после, насколько позволяло время, углубившись на несколько верст в глубь страны и осмотрев окрестности становища, мы ночью вернулись на пароход, а в 10 часов утра "Владимир" поднял якорь и, выйдя из Кармакульской гавани, пошел в самое северное становище, расположенное в западном устье Маточкина Шара. Погода была пасмурная, и на пути несколько раз наносило туман, который бывает в этих широтах очень густ и часто наступает внезапно. Но туманы были непродолжительны, почти не задерживали хода парохода, и в 8 часов вечера 18-го июля мы уже входили, миновав Столбовой мыс, в Поморскую бухту, на берегу которой, около устья впадающей в нее с юга речки Маточки, расположены избы становища. Здесь становище состоит только из трех изб с амбаром при них, и в лето нашего пребывания на Новой Земле жила одна самоедская семья Прокопия Вылки — одного из лучших промышленников на острове, оказавшего вместе с своим братом Константином Вылкой своей опытностью услуги не одной уже экспедиции. Прокопий Вылка промышляет в Маточкином Шаре с работником, но ему помогают также и охотятся очень успешно две его дочери, девицы 15 и 17 лет.

Поморская губа окружена почти со всех сторон высокими берегами. По обоим сторонам широкой дельты, образуемой рекой Маточкой, впадающей с юга в бухту, поднимаются две высокие черные горы: на восточной стороне долины гора Маточка, на западной Пила. За ними, на юг, тянутся также высокие горы, провожающие широкую и довольно низменную, покрытую богатой растительностью долину реки Маточки. К востоку, по обоим берегам шара, идут еще более высокие горные цепи; в нескольких местах на берегах шара есть глетчеры. Вид берегов и гор здесь гораздо более дик и суров, нежели в южных и средних частях острова. Высота горных цепей гораздо значительнее, нежели у Кармакул. По определению Цивольки высота горы Маточки („Die Höhe des Berges, um dessen westlichen Fuss das Flüsschen Matotschka vorbeifliesst“...) равняется 2547,3 англ. футам, горы Серебряной, ограничивающей вход в Маточкин Шар с севера — 1885 футам, горы на Моржовом мысу 3475 футам. Расстояние между подошвами гор, ограничивающих с О и W устье Маточки, в котором находится становище, около четырех верст. Более низкая часть долины реки шириною около двух верст, а от нее к подножью покрытых осыпью сланца и почти совершенно лишенных растительности гор, поднимаются довольно пологие увалы, кончающиеся крутыми обрывами к морю, то есть на N, а в сторону гор — на О и W — поднимающиеся постепенно и переходящие в крутые черные склоны гор; увалы эти сверху покрыты мелким щебнем, и местами довольно хорошо задернованы. То там, то тут попались группы цветов, все тех же желтых лютиков и Papaver nudicaule, Silene acaulis, Cerastium, незабудок, а кое-где и злаков. Особенно многочисленными были здесь лиловые цветы Polemonium caeruleum. Местами обилен и густ моховой покров, из которого на тоненьких веточках высовываются листья полярной ивы (Salix polaris), ствол которой, иногда в 2 аршина длиною, стелется по земле под защищающим его моховым покровом. Я поднялся с довольно большими усилиями по крутым склонам Маточки приблизительно до половины ее высоты, и здесь не нашел уже почти никаких признаков растительности. Мелкий сланцевый щебень, в котором вязла нога и который безпрестанно обсыпался, покрывал всю гору; по нему кое-где были разбросаны более крупные обломки и целые плиты сланца; часто попались также куски кварца. До половины высоты горы дотянулись только редкие и почти совершенно незаметные кучки мхов и лишаев, обросших обломки скал. Явнобрачные растения исчезли уже гораздо ниже, у самой подошвы крутого склона; выше всех поднимались по склону кучки Myosotis alpestris, одинокие цветки мака (Papaver nudicaule) и Salix polaris. Замечательно, что уже высоко на горе, там, где почти исчезала всякая растительность, на меня напали комары, которые были незаметны внизу в долине реки. Комаров было, однако, немного, и они кусались как-то лениво и нерешительно.
На горах, по берегам Поморской губы и шара, лежало еще много снега; во многих местах видели мы великолепные ковры цветов, покрывавших почву в непосредственной близости от больших оледеневших сверху сугробов снега. Но льда ни в бухте, ни в проливе не было и признаков. На берегах Маточкина Шара, среди высоких темных гор, местность казалась еще более дикой и пустынной, нежели в горах Кармакул. Водяных птиц здесь почти не было видно. Только все те же рюмы и пуночки, несколько куликов, перелетавших по руслу Маточки, и белая полярная сова (Nyctea nivea), кружившаяся над долиной реки, несколько оживляли местность.
В то время, как С. А. Бутурлиным и мною были осмотрены ближайшие окрестности становища и дельта Маточки, Б. Т. Лебедев и В. Г. Романовский произвели маршрутную съемку Поморской губы. По окончании этой работы утром 19-го июля Б. Т. Лебедев принял также участие в нашей экскурсии внутрь острова по течению реки Маточки, причем нами была произведена маршрутная съемка долины на протяжении 7 верст от дельты. К сожалению, во время съемки погода была пасмурна, густой непроглядный туман застилал окрестные горы почти до их подошвы, и потому не было никакой возможности составить более подробное представление о характере гор, окружающих эту часть долины Маточки.
Река Маточка, несмотря на широкое местами русло, в нескольких верстах от устья уже почти не имеет воды. Слабые ручейки пробираются между камнями, которыми засыпано русло. Только самое расширенное устье ее образует большой водоем, в который входят не без труда небольшие гребные карбасы. Далее (уже в 100 саженях от устья) глубина реки равняется аршину и менее. Несколько десятков лет тому назад устье Маточки было глубже, и в него входили небольшие суда промышленников. Так же обмелело теперь, по словам Чернышева, устье Чиракиной, в которое в 1834 году зашел с своим карбасом Пахтусов, и в которое теперь не пройдет и маленькая шлюпка. Это обмеление результат отрицательного движения берегов Новой Земли, следы которого путешественник видит там всюду: и в поднятии речных долин, и в нахождении в значительном расстоянии от берегов плавника, и в образовании у берегов острова реликтовых озер. Русло Маточки в самом нижнем ее течении усыпано мелким щебнем и довольно широко. В 300-400 саженях от устья ширина русла (дна) реки равняется ста саженям, причем река бежит здесь тремя ручьями, глубина которых не превышает 1/2 аршина; течение очень быстрое. В 500 саженях от устья русло суживается почти внезапно до 25-30 сажен ширины. По этому руслу бегут здесь два еще более мелкие ручья по 7-8 сажен шириною. Русло покрыто мелким щебнем, но берега реки, и дальше часть долины до подножья гор, хорошо задернованы и местами покрыты цветами, в особенности лютиками, незабудками и Silene acaulis. Местами почва одета сплошным покровом из мхов.
Правый берег по направлению к южным скатам горы Маточки поднимается довольно пологой террасой; от левого берега тянется через долину гряда холмов, подходящих к подножию высокой в виде усеченного конуса горы, поднимающейся южнее горы Пилы. Южнее горы Маточки, в 2 1/2 верстах от устья реки, восточную сторону долины также окаймляет высокая, протяженностью от N к S более версты, гора, обильная щелями и оврагами, набитыми снегом. В 3 1/2 верстах от устья русло реки суживается до 15 сажен. Оно окружено обрывистыми, сложенными из горизонтальных пластов глинистого сланца берегами от 3 до 7 сажен вышиною. Узкое русло совершенно завалено здесь крупными (некоторые в аршин и более в диаметре) хорошо обкатанными льдом и водою камнями, между которыми дно покрыто сланцевым щебнем и мелкой галькой. По дну между камнями бежит едва заметный ручеек. Ширина долины, по-прежнему богатой растительностью, все та же — 3-4 версты до подножия темных гор, вышина которых на глаз колеблется от 1 1/2 до 2 1/2 тысяч футов. Ближайшие к руслу части долины болотисты, обильны мхом и Salix polaris. В четырех верстах от устья ручеек едва заметен; русло по-прежнему сужено довольно высокими берегами с горизонтальными и вертикальными выходами сланцев. Берега реки и долины кругом совершенно зеленые и покрыты хорошим дерном вследствие обилия злаков и осок. Замечательно было здесь чрезвычайно мощное развитие некоторых цветковых растений. Caltha palustris и лютиковые с хорошо развитыми листьями попадались со стеблями в 4-5 вершков, а отдельные экземпляры Polemonium caeruleum достигали вышины в 9 вершков. Цветки этих форм, равно как многочисленных стелларий, были чрезвычайно крупны и ярко окрашены. Различные злаки также достигали вышины 8 вершков.

В пяти верстах от устья потянулись снова пологие берега. Восточный берег несколько более крут и лучше задернован. Западный берег ниже и болотист, местами же покрыт илообразной массой, принесенной очевидно весенними снеговыми водами. По болоту, покрывающему этот берег, также разросся целый ковер из Caltha palustris и Ranunculus acris. Других цветов здесь почти не было заметно. В шести верстах от моря долина начала несколько расширяться; склоны довольно отлоги. Восточный склон более болотист и менее богат растительностью, западный покрыт целыми коврами Myosotis alpestris с чрезвычайно крупными цветками, лютиков, Papaver nudicaule, Cerastium alpinum и др. форм.
На восьмой версте от устья русло Маточки разделяется. Река принимает здесь с запада речку также с довольно широким руслом, и долины обеих речек, расходящиеся отсюда, двумя широкими разлогами, разделяются невысоким, постепенно поднимающимся к югу увалом. Мы поднялись по нему довольно высоко с целью окинуть с него взглядом долину Маточки, несколько повернувшую здесь от южного направления на ЮЮВ. Но туман, который мешал нашей работе во все время пути, к этому времени был уже так густ, что мы не видели даже подножия ближайших гор и в самой долине едва различали окрестности на расстоянии 50-100 сажен. К тому же и бывшее в нашем распоряжении время не позволяло нам забраться далеко; и как ни манила нас неизвестная, затянутая туманом даль, мы повернули обратно и через три часа довольно трудной ходьбы достигли становища. Таким образом при осмотре долины Маточки мы должны были ограничиться восемью верстами ее нижнего течения. В. К. Бражников, проведший в 1897 году 2 месяца в Маточкином Шаре и хорошо знакомый с его окрестностями, говорил мне со слов самоедов, что приблизительно в 20 верстах от устья Маточка вытекает (или протекает через?) из большого пресного озера.
При осмотре нижнего течения реки наше внимание всего больше остановило на себе, во-первых, почти полное отсутствие воды в русле, наполненном, очевидно, только в период сильного таяния горных снегов, и во-вторых, богатство травяного покрова в долине. Во многих местах здесь болотистая или только сыроватая почва, местами на пространстве десятков десятин, была покрыта такой густой и зеленой — от присутствия листьев на стеблях лютиковых растений, равно как злаков и осоковых — растительностью, что такие места можно было смело назвать болотистыми лугами. Некоторые пункты долины реки Маточки являются местами, наиболее богатыми растительностью среди всех мест, виденных нами на Новой Земле, и это несмотря на значительно более северную широту Маточкина Шара сравнительно с широтой Кармакул и Белушьей губы. Причиной такого богатого травяного покрова является, конечно, обилие измельченной наносной почвы, приносимой во взвешенном состоянии с гор и из области верховья реки во время половодья и постепенно оседающей на пологих берегах реки и по всей низменной части долины, вероятно во время таяния снегов во всю ширину покрытой снеговыми потоками. Обилие наносной почвы позволяет и отдельным растениям развиваться с большой силой, достигая мощного развития стеблей и цветков.
Прибыв на стоянку в Маточкин Шар, мы застали там яхту "Морж" (построенную по норвежскому типу) Кемского купца Антонова под командой шкипера Еремина. Судно поднимает до 5000 пудов груза и имеет 9 человек команды. Яхта, по словам шкипера, пришла на Новую Землю 2 недели тому назад из становища Еретики на Мурмане для ловли гольца и белухи. Промыслы в Маточкином Шаре были неудачны, и шкипер предполагал идти на гольцовый промысел в Костин Шар. 19-го июля, кроме того, в Маточкин Шар пришла норвежская яхта "Vega", принадлежащая купцу I. A. Espensen в Вадсе; с командой 10 человек. По словам шкипера, яхта плавала 3 месяца, промышляя в открытом море у льдов, была у Гусиной Земли и после 10-го июля вдоль западных берегов Новой Земли прошла на север севернее 75°, не встретив льдов. Груз яхты состоял приблизительно из 200 убитых тюленей.
Через три часа после нашего возвращения из долины Маточки, в 10 часов вечера 19-го июля, пароход поднял якорь. Густой туман лежал над морем, так что едва видны были берега бухты; над шаром туман был еще гуще, совершенно закрывая даже ближайшие горы. Мы вышли, однако, вполне благополучно из гавани, и, отойдя миль на 15 на запад от мыса Столбового, пароход взял курс на Городецкий. Большая часть пути до берегов Лапландии была сделана при прекрасной тихой и ясной погоде. Только к вечеру 21-го июля стало снова пасмурно и изредка наносило туман. В 2 часа дня этого числа мы увидели берега Лапландии, пройдя в 40 часов 390 миль, при довольно туманной погоде миновали горло Белого моря, а в 7 часов вечера 22-го июля пароход пристал к Соломбальской пристани в Архангельске.
Таким образом, наше плавание по Ледовитому океану вместе с пребыванием на берегах Колгуева и Новой Земли было весьма непродолжительным. Незначительность средств, которыми мы располагали, не позволила нам ни запастись некоторыми необходимыми инструментами, ни обременять себя сколько-нибудь значительным количеством реактивов и посуды, необходимых при сборе морской фауны. Все это заставило нас отказаться от производства каких-либо наблюдений во время пути и от драгировок и лова планктонной сетью во время стоянок парохода, хотя, при наличии нужных инструментов и реактивов, представлялась бы к тому легкая возможность вследствие любезности командира парохода И. И. Буркова, отдававшего в наше распоряжение шлюпки с командой всюду, где это представлялось нам желательным.
Во время пребывания нашего на берегах Новой Земли мы сосредоточили наше внимание главным образом на сборе материалов по орнитологии и по распространению млекопитающих, особенно промысловых. Но прежде чем переходить к изложению собранных нами данных по фауне млекопитающих, я остановлюсь вкратце на некоторых сторонах жизни населяющих остров самоедов.
Число самоедов колонистов, населяющих Новую Землю, ежегодно колеблется, как вследствие естественного прироста населения, так и потому, что иногда колония пополняется вновь приезжающими с материка самоедами, иногда же колонисты, заявившие себя ленивыми или плохими промышленниками, вывозятся администрацией обратно в тундру. Зимой 1896/97 года колонистов было 85 человек; родилось 4; вновь привезено 11. На зиму 1897/98 года оставалось 21 семейство в количестве 100 душ, из них мужчин 52, женщин 48, взрослых 54, детей 46; промышленников 32 человека; в течение зимы родилось два, вывезено в Архангельск 4. На зиму 1898/99 года оставалось 96 человек, родилось 5, умерло 3 (из них 2 утонули во время промыслов), 14 человек вывезено в Архангельск. На зиму 1899/1900 года оставалось всего 84 души, из них промышленников 24 человека.
Я уже говорил выше, что материальное положение колонистов находится в хорошем состоянии, с одной стороны вследствие богатства Новой Земли промысловым зверем, с другой потому что самоеды защищены здесь от эксплуатации скупщиками, ведущими в других местах побережья Ледовитого океана торговлю с самоедами и назначающими иногда, пользуясь пристрастием самоедов к водке, чуть не произвольные цены и на сдаваемые самоедами предметы промысла и на промениваемые на них, привезенные скупщиком товары. Высокие цены, за которые продаются добытые Новоземельскими колонистами шкуры и сало, и заготовка всего необходимого для их жизни в Архангельске по рыночной цене сделали многих из Новоземельских промышленников людьми зажиточными, могущими приобретать такие предметы роскоши, как самовары, посуду, праздничное "немецкое" платье, хорошие ружья и тому подобное. В год нашего посещения Новой Земли колонист становища в Маточкином Шаре поручил заведующему Новой Землей А. М. Макарову купить ему в Архангельске дюжину мельхиоровых ложек, считая неприличным угощать деревянными ложками заезжих к нему гостей-промышленников или путешественников, — русских, норвежцев и англичан. Успеху промыслов колонистов содействует очень и вооружение их берданками, также отпускаемыми из казны, мера, которую очень полезно было бы распространить и на других самоедов, которые промышляют в различных местах Ледовитого побережья и до сих пор еще обходятся громадными и неуклюжими кремневыми "моржовками", бой которых по силе и меткости, конечно, не может быть и сравниваем с боем винтовок Бердана, представляющих вполне подходящее оружие для охоты на крупного зверя.

Несмотря на сравнительный достаток, в котором живут новоземельские самоеды, они живут чрезвычайно грязно. По месяцам иногда не вылезают они из своих меховых оленьих малиц, которые большинство самоедов носит и летом. Очень грязно также приготовляется пища. Самоедский пир над только что убитым оленем, когда вымазанные кровью участники пира, с величайшей ловкостью управляясь с ножом, пожирают сырое мясо, и за одно и то же оленье ребро часто держатся зубами с одного конца ребенок, с другого собака, — представляет зрелище в одно время и любопытное и отвратительное.
В характере самоедов есть очень привлекательные черты. Обращение их с людьми свободно. Новому знакомому, если он только не возбудил почему-либо его недоверия, самоед подает руку и ждет, чтобы и с ним обращались, как с человеком. Ни малейшей приниженности не заметно в его отношении к купцам и властям. К своим правам они относятся сознательно, сложные расчеты при продаже предметов промысла и распределении вырученных денег ведут вполне отчетливо. Эксплуатации их русскими торговцами зависит не от какой-либо их наивности, неумения считать или определить цену вещи и тому подобного, а, главным образом, вследствие страсти к водке, причем привезший водку и товары торговец, оказывающий самоеду дружелюбное внимание и на первых порах угощающий его даром водкой, сходит за лучшего приятеля, которому не грех и уступить товар и подарить одну-другую шкуру. Все знающие самоедов говорили мне о их верности данному обещанию и исполнению раз принятых на себя обязанностей. Говорили, что ласковым и справедливым отношением можно от самоедов добиться всего, и что они не терпят грубого обращения. Водка составляет общую их слабость: пьют и мужчины и женщины, и непременно, если возможно, до пьяна.
Самоеды наблюдательны и интересуются окружающим их миром. Они дали, например, названия почти всем птицам, населяющим север, и хорошо их знают. О величайшей приспособленности их платья, жилища, упряжки, промысловых лодок и тому подобного ко всем условиям жизни на дальнем севере нечего здесь распространяться: это факт общеизвестный, и верный также и для других северных инородцев.
Самоеды, живущие в Кармакулах, очень охотно посещают церковь, никогда не пропуская богослужений. Дети учатся в школе, находящейся при ските. Школе этой посвящали часть своего времени все зимовавшие на Новой Земле иеромонахи. Таким образом в религиозном отношении и в отношении просвещения колонисты Новой Земли находятся в несравненно более благоприятных условиях, чем громадное большинство кочующих самоедов материка. Это не мешает, конечно, существованию известной сбивчивости в религиозных представлениях самоедов, у которых остатки языческих верований смешиваются с христианскими. В своем отчете за 1897 год А. М. Макаров пишет, что некоторые из самоедов, проживающих в Маточкином Шаре, имеют идолов. Идол найден также у одного из проживающих в Кармакулах самоедов. Этот самоед, по рассказам других самоедов, в день Пасхи 1893 года отправился в дом причта, чтобы достать у иеромонаха водки. Иеромонах не отпер дверей на его стук. Тогда самоед достал своего идола, взял его под малицу и с ним вместе трижды обошел вокруг дома. Когда же и после этого дверь не была открыта, самоед, рассердившись на идола, прибил его.
Интересно санитарное состояние Новоземельской колонии, так как она является доказательством того, насколько призрачны многие из тех страхов, которыми пугает людей далекий север, и как легко могут быть иногда преодолеваемы препятствия, на первый взгляд казавшиеся очень серьезными. История путешествий на Новую Землю с целью описания ее берегов, а равно и сохранившиеся письменные и устные известия о посещениях берегов острова промышленниками с древнейших времен до недавнего сравнительно времени заключают в себе чрезвычайно длинный список жертв, погибших от цинги. Не раз на Новой Земле вымирали целые партии промышленников, по воле или неволе зазимовавшие на острове; болели и умирали от цинги очень часто даже люди в партиях, промышлявших на берегах острова только в продолжение лета.
Тридцатилетнее существование колоний на Новой Земле показало с полной ясностью, что причиной развития цинги среди зимовавших на острове промышленников являлись не столько климатические условия, сколько переносимые людьми лишения и недостаточное или однообразное питание. Только в зиму 1892/93 года цинга была довольно сильна в Кармакулах: от нее умерли иеромонах Варахиил, жена и сын фельдшера, двое русских промышленников и две самоедки. Вероятно, главнейшей причиной появления цинги в этом году был недостаток овощей, которые были доставлены в слишком незначительном количестве вследствие неурожая их в Архангельской губернии. Отдельные, спорадические случаи цинги бывали среди самоедов и в другие годы, но обычно кончались выздоровлением. Отсутствие растительной пищи и недостаток движения во время полярной зимы (а именно этим, конечно, более всего страдали партии зимовавших промышленников, запертых снегами и вьюгами в дымных и тесных избах), как кажется, более всего способны вызывать цингу. Самоеды лучшим профилактическим средством против цинги считают свежую кровь — особенно оленью.
Хочу обратить внимание на следующее обстоятельство. Среди самоедов можно довольно явственно различить два типа: одни из них своими несколько неопределенными и расплывчатыми чертами лица и относительно более светлыми волосами приближаются к финнам; другие черными прямыми волосами, узкими очень косо поставленными глазами и всем складом лица сильно напоминают инородческие племена восточной Азии, например тунгусов или якутов. Не имея среди своих фотографий портретов самоедов, я позволю себе здесь сослаться на портреты, приложенные к книге Гофмана "Северный Урал" (Спб. 1856 г.) и ко II-ой части "Путешествия на север и восток Сибири" академика Миддендорфа (Спб. 1869 г.). Примером первого типа могут служить портреты на III-ей и IV-ой таблицах книги Миддендорфа; примером второго портреты на таблицах между 142 и 143 стр. книги Гофмана. Чрезвычайно характерные черты восточно-азиатских народностей носит вся семья Прокопия Вылки в Маточкином Шаре. Две его молоденькие дочери легко могли бы сойти за кореек.