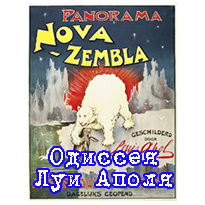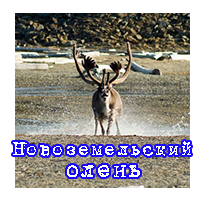Новая Земля и её обитатели

Летом текущего года мне представился случай побывать на Новой Земле.
В настоящее время посещение Новой Земли не сопряжено с какими-либо трудностями, как это было раньше, до учреждения пароходных рейсов. С 1880 года Товарищество Архангельско-Мурманского пароходства за правительственную субсидию обязалось совершать два рейса на Новую Землю — в июле и сентябре. С этими рейсами обычно отправляется командированный Архангельским губернатором чиновник для передачи колонистам заготовленных для них припасов и получения от них продуктов промысла.
Пароход совершает рейс за 12–14 суток. Стоимость проезда установлена невысокая: в I классе — 18 рублей, во II — 8 рублей 80 копеек, в III — 4 рубля 40 копеек. Полным продовольствием от буфета можно пользоваться в I классе за 2 рубля 50 копеек в сутки, а во II классе — за 1 рубль 75 копеек; для пассажиров 1-го класса пользование продовольствием от буфета обязательно.
5 июля пароход "Королева Ольга Константиновна" должен был отправиться на Новую Землю. К шести часам вечера все пассажиры собрались. Завершалась погрузка парохода; вся его палуба была сплошь завалена строительными материалами, что сильно стесняло пассажиров.
Состав пассажиров был весьма разнообразен. Здесь были: адмирал А. А. Бирилёв, иеромонах из Красногорского монастыря с псалмщиком, врачи, среди которых — бывший член 2-й Государственной думы доктор Долгополов, инженеры, педагоги, сельские хозяйственники, представители прессы, учащаяся молодёжь обоего пола, учёные и другие. Шутники говорили, что состав пассажиров настолько разнообразен, что даже законодательные палаты имели своих представителей.
С этим рейсом отправлялся заведующий новоземельскими колониями, правитель канцелярии Архангельского губернатора Б. И. Садовский, а также три экспедиции для исследования Новой Земли. Первая экспедиция под руководством инженера В. А. Русанова ставила целью обследование южной части Южного острова Новой Земли в геологическом, географическом и естественно-историческом отношениях. Вторая экспедиция инженера-металлурга А. А. Свицына должна была провести инструментальную съёмку Пропащей губы, попутно занимаясь геологическими изысканиями и сбором ботанического и зоологического материала. Третья, частная экспедиция под руководством инженера А. В. Иванова, командированная Архангельским губернатором в Крестовую губу, должна была построить часовню в поселке Ольгинском и отремонтировать дом колонистов. В её задачи также входили геологические исследования, сбор естественно-исторического материала и метеорологические наблюдения. Вместе с этой экспедицией отправлялась партия плотников.
Кроме перечисленных экспедиций, для ботанических исследований на Новую Землю отправилась группа шведских ботаников и доктор П. А. Локшевиц, а для энтомологических исследований — автор этих строк.
Помещение II класса было неудобным и тесным: общая каюта, вдоль стен которой в два ряда располагались койки, служила нам и спальней, и столовой, и гостиной. Однако это неудобство не тяготило нас благодаря дружелюбным и сердечным отношениям, установившимся между пассажирами II класса.
В назначенный день пароход не отплыл: слишком поздно была доставлена моторная шлюпка "Полярная" для экспедиции Русанова. После осмотра выяснилось, что шлюпка неисправна, и на её ремонт и установку на палубе парохода ушло немало времени. Только на следующий день, в 9 часов утра, наш пароход под командованием симпатичнейшего А. Ф. Демьянова, любезность которого не раз помогала мне и другим пассажирам во время пути, отошёл от пристани.
Проезжая мимо Соломбалы, мы увидели стоявший у берега военный транспорт "Бакан", вероятно отдыхавший после трудной "крейсерской" службы в северных водах, хотя время для отдыха было выбрано неудачное. На палубе "Бакана" выстроилась вся команда, чтобы поприветствовать адмирала Бирилёва. От Соломбалы почти до самого моря тянулись лесопильные заводы и склады лесоматериалов, заготовленных для отправки за границу. У каждой заводской пристани стояли иностранные пароходы, преимущественно английские, грузившиеся лесом.
Через три часа мы вышли в море. У плавучего маяка пароход остановился, чтобы высадить лоцмана.
Погода была ясная и тихая, море совершенно спокойное. Пассажиры толпились на палубе, никому не хотелось спускаться в каюты. В приятной и оживлённой беседе время летело незаметно. Сначала пароход держался правого берега, затем пересек горло Белого моря и вдоль высоких, негостеприимчивых, местами ещё покрытых снегом, берегов Лапландии продолжил путь к Канину Носу. Около 8 часов вечера мы пересекли полярный круг.
Было далеко за полночь, но пассажиры не спешили покидать палубу, любуясь дневным светилом, не скрывавшимся за горизонтом. Тихая и светлая полярная ночь была прекрасна. Около полудня следующего дня мы миновали Канин Нос — высокий и скалистый берег, во многих местах покрытый блестящим на солнце снегом.
Океан, как и Белое море, был ласков к нам. Всю дорогу до залива Рогачёва стояла чудесная погода. Особенно хороша была полярная ночь в океане. На следующий день около 10 часов утра на горизонте показалась белая полоса — Новая Земля.
Новая Земля, расположенная между 77° и 70°80' северной широты и 51°30' и 69° восточной долготы, представляет собой, по сути, два острова, разделённых узким проливом — Маточкиным Шаром. Ещё в глубокой древности она была открыта русскими, на что указывают найденные голландцем Баренцом в 1594 году деревянные кресты со славянскими надписями, а также то, что данное русскими этому двойному острову название встречается во всех иностранных атласах.
Исследование Новой Земли русскими началось только со второй половины XVIII столетия. Отважный мореход Савва Лошкин первым обошел Новую Землю (1760–1765) и тем самым доказал, что она — остров. Размыслов в 1768 году обследовал Новую Землю от Гусиной Земли до Маточкина Шара, а после зимовки описал весь пролив до Карского моря. В начале XIX столетия Поспелов описал берег от Костина Шара до Маточкина. Лейтенант Лазарев в 1819 году определил некоторые астрономические пункты, а экспедиция Литке (1821–1824) описала южные и западные берега Новой Земли. В этом направлении много потрудились наши неустрашимые моряки Пахтусов, Моисеев, Циволька. Последний с восемью матросами во время зимовки в Мелкой губе погиб от цинги.
Вот что пишет Быков в своём путевом дневнике по поводу увиденной им могилы Цивольки: "Около 10 часов вечера мы заходили в маленькую бухточку Мелкой губы, где семьдесят лет назад зимовал смелый исследователь Новой Земли Циволька и где он нашёл себе безвременную кончину. Мир праху твоему, отважный исследователь!"
"Мысль ли о муках, так много перестрадавшего здесь Цивольки, или весь угрюмый вид этой скалистой, изрезанной рифами губы с далеко отодвинувшимися от неё горами, но это место производит грустное впечатление, которое ещё более усиливается полуразвалившимися домами зимовки Цивольки и лежащим на земле крестом, поваленным бурей, на верху его могилы и могил восьми членов команды, разделивших печальную участь своего начальника". "Пусто, мертво вокруг высокой скалы, где погребён прах Цивольки. На упавшем кресте надпись: "Здесь покоится прах Н. Э. К. Ф. Ш. прапорщик Циволька, кончивший жизнь 16 марта 1839 года, и ещё 8 человек умерло во время зимовки от цинготной болезни из числа служителей. Крест поставлен К. Ф. Ш. прапорщиком Моисеевым".
Попытка пересечь Новую Землю зимой с запада на восток была предпринята корпусным флотским штурманом капитаном Тягиным, зимовавшим с женой в 1877 году, но она не увенчалась успехом. Доктору Гриневецкому, члену экспедиции Андреева, только во второй раз удалось достичь Карского моря. Академик О. Н. Чернышёв летом 1895 года пересек Новую Землю от мыса Кармакул до бухты Григория Голицына. В последнее время, благодаря просвещённой инициативе Архангельского губернатора И. В. Сосновского, исследование Новой Земли идёт быстрыми шагами. В. А. Русанову удалось пересечь Новую Землю от Крестовой губы до Незнаемого залива.
Несмотря на то что исследование Новой Земли началось с середины XVIII века и продолжается по настоящее время, её северная часть остаётся слабо обследованной, а внутренняя почти неизвестна. Это можно объяснить только тем, что путешествие к мрачным и негостеприимным берегам Новой Земли в прежние времена было сопряжено с неимоверными трудностями и опасностью для жизни. Знаменитый академик Бэр в своём отчёте Академии наук о путешествии на Новую Землю в 1837 году писал: "...чтобы представить себе опасности Новой Земли, не нужно упоминать ни о замерзании голландцев, ни о гибели Вуда — достаточно рассмотреть путешествия, совершённые до нас офицерами русского флота на Новую Землю".
Теперь вернусь к прерванному изложению.
С приближением к заливу Рогачёва стал попадаться плавающий лёд. Вот поравнялись с чёрным, как уголь, невысоким, скалистым островом, поверхность которого представляла совершенно горизонтальную плоскость. В заливе льда было много, и пароход стал продвигаться медленно. Наконец стали различать избы самоедского становища Белушья Губа и развевающийся флаг. Послышались ружейные выстрелы — это самоеды приветствовали прибытие парохода. Каждое такое прибытие для самоедов-колонистов — светлый праздник, ведь пароход привозит им из Архангельска всё необходимое для их незатейливой жизни, за исключением мяса и рыбы.
За время пути через океан В. А. Русанов, чтобы определить направление морских течений, выбросил около 400 закупоренных и засмолённых бутылок со вложенными в них записками на трёх языках. В записках содержалась просьба к нашедшему бутылку сообщить по адресу Архангельского общества изучения Русского Севера, где и когда была найдена бутылка.
Не доезжая сорока саженей до берега, пароход бросил якорь. Сразу же к нему на карбасах подъехали самоеды и, взобравшись на палубу, стали весело здороваться с нами, пассажирами, за руку. От них мы узнали, что в становище проживают шесть норвежцев с разбитого у берегов залива Рогачёва судна.
Бухта, на берегу которой расположено становище Белушья Губа (71°31' с. ш.), хорошо защищена от ветра и потому представляет удобную стоянку. Невысокие берега её пустынны: нигде не видно ни деревца, ни кустика. Вдали видны невысокие горы. Более высокие участки береговой полосы каменистые, а низменные представляют собой торфяные болота со множеством луж и небольших прудов. День был пасмурный, термометр показывал +8°R.
Становище было основано Архангельским губернатором Энгельгардтом в 1897 году после подробного исследования залива Рогачёва лейтенантом Бухтеевым. Сюда были переселены 7 самоедских семей и промышленник Василий Кириллов с женой и сыном (Василий Кириллов вместе с другим крестьянином Яковым Запасовым в 1893 году перебрался на Новую Землю на лодке из устья Печоры. Кириллов въ 1898 г. вернулся на родину, а Запасов и по настоящее время живет на Новой Земле (в Крестовой губе)). Самоеды-колонисты живут в деревянных домах, которые были привезены им в разобранном виде из Архангельска. Четыре дома расположены вдоль берега недалеко друг от друга, а два — в отдалении: один в версте, другой немного дальше. Кроме домов, внутренность которых напоминает крестьянские избы, у самоедов нет никаких хозяйственных построек (дворов, сараев, амбаров).
На пароходной шлюпке я вместе со шведами-ботаниками и доктором Локшевицем отправился на берег для сбора энтомологического и ботанического материала. Почва окрестностей Белушьей Губы была обильно покрыта цветами различных оттенков — от белого до тёмно-фиолетового; преобладали незабудки. Среди цветов выделялся своим более высоким ростом красивый жёлтый мак. В большом количестве попадалась стелющаяся по земле ива, а изредка — стелющаяся между камней карликовая берёзка. Красивые мхи, среди которых особенно хорош красный, дополняли картину.
В лужах в большом количестве попадался жук из семейства плавунцов, а также в небольшом количестве — новый вид из рода Нуdгороrus. Из других насекомых преимущественно встречались представители отряда двукрылых.
После ботанико-энтомологической экскурсии я вместе с другими туристами присоединился к Б. И. Садовскому, который с доктором Н. Н. Теребинским проводил санитарный осмотр жилищ самоедов.
Внешность обитателей Белушьей Губы неприглядна: за немногими исключениями, все они невысокого роста, коренастые, с широкими скулами и чёрными жёсткими волосами; впрочем, среди них есть и такие, которых по внешнему виду трудно отличить от русских. Все колонисты-самоеды, как мужчины, так и женщины, довольно хорошо говорят по-русски.
Отличаясь крепким здоровьем и выносливостью, самоеды могли бы стать хорошим элементом для колонизации Новой Земли, если бы не их лень, безпечность и сильная страсть к водке. Последняя губит в самоеде волю в самом её корне: за водку он готов отдать не только всё своё имущество, но даже жену и детей, если бы нашёлся покупатель.
Культура коснулась их лишь слегка, с чисто внешней стороны. В их избах, не отличающихся опрятностью, есть иконы с лампадками, столы, лавки вдоль стен и табуреты. Здесь можно найти самовары, даже никелированные, чайную посуду, тарелки, ложки, ножи и вилки, но всё это в таком виде, что европейцу противно взять в руки. Многие самоеды носят часы, а некоторые даже умеют различать пробу на серебряных и золотых вещах.
Одежда большинства самоедов, как мужчин, так и женщин, состоит из малицы — рода длинной рубахи, сшитой из оленьих шкур, штанов и пим (оленьих сапог), также сшитых из оленьей шкуры. Некоторые, впрочем, носят, как и русские крестьяне, фуражки, ситцевые рубашки, жилетки, пиджаки и кожаные сапоги.
Основная пища самоедов — хлеб, но в первую очередь оленина, которую они предпочитают есть в сыром виде; к этому быстро привыкают и русские промышленники. Охотно едят они рыбу, преимущественно гольца (род семги), а также гусей и других водоплавающих птиц. Любят чай, пьют его часто и много.
Главным занятием самоедов является звериный промысел, а также рыбная ловля. Ловля рыбы ведётся с 1 июля, то есть с начала лета, до середины августа в устьях рек; ловят преимущественно гольца — довольно ценную рыбу. Охотятся на оленей, белых медведей, песцов, морских зверей: моржей, нерпу и других морских млекопитающих.
Позволю себе передать слова иеромонаха Ионы, прожившего несколько лет в Малых Кармакулах и основательно изучившего быт самоедов, о их промысловых занятиях:
"Новоземельские самоеды живут исключительно охотой. С января они поднимаются на юго-восточную сторону Новой Земли на охоту за оленями. Ездят на собаках, запрягая их в санки по 8–10 штук. На санки кладут всё своё имущество и детей, а сами идут пешком. Остановившись, устраивают чум, разводят в нём костёр и вешают над огнём котлы и чайники. Жизнь здесь течёт обычным образом: мужчины ходят на охоту, а женщины занимаются хозяйством. Самоеды охотятся также на зайцев, тюленей, лысунов и изредка на моржей.
Первый промысел морских зверей начинается у них осенью, с конца сентября, и продолжается до замерзания губ зимой. В это время они разъезжают на своих маленьких лодках и бьют из ружей появившихся из воды зверей. Когда бухты начинают покрываться льдом, запрягают собак в нарты, кладут туда лодку и едут к морю на открытое место, где ещё не намерзло льда, и здесь стреляют зверей, переправляя убитых на лодках. Осенью, с появлением льдов у берегов Новой Земли, на берега выходят и медведи. Самоеды стреляют их на льду, когда те охотятся на зверя или возвращаются с охоты.
Охота на оленей — самый главный промысел самоедов: нет оленей — и у самоедов нет ни пищи, ни одежды. Песцов они либо стреляют из ружей, либо ловят в капканы. Гуси, лебеди, чайки, гагарки, гаги, чистики и их яйца употребляются самоедами в пищу. Самый удобный и благодарный птичий промысел — на гагарок. Охотятся на них так: когда гагарки садится огромными стаями на горных хребтах, самоеды подходят к ним и стреляют из ружей; большинство гагарок от страха падает вниз, где их добивают палками. Рыбным промыслом самоеды почти не занимаются, ловят только гольца весной и осенью на удочки, перегораживая ими устья рек."
Самоеды-колонисты хорошо владеют огнестрельным оружием и разбираются в ружьях. Неряшливые во всём, они бережно обращаются с ружьями и содержат их в порядке. У некоторых самоедов есть внушительная коллекция ружей, среди которых попадаются довольно дорогие экземпляры.
Обходя самоедские дома, мы поражались огромному количеству собак. Около каждого дома их можно было насчитать несколько десятков, среди них встречались типичные лайки. Собаки необходимы самоедам и для охоты, и для запряжки в санки (нарты), куда обычно запрягают от 8 до 10 собак. Большое количество оленьих рогов, валявшихся около домов, а местами сваленных в кучи, говорило о том, что охота на оленей в этом году была удачной. Здесь же были развешаны и шкуры белых медведей.
Около дома самоеда Григория Пырерки стоял небольшой чум, в котором жил своим хозяйством его девятилетний сын с будущей женой — девочкой-самоедкой его возраста. Эта будущая супружеская пара неоднократно перевозила меня на маленькой лодке с берега на пароход.
Утром следующего дня мы стали свидетелями необычного для Новой Земли случая: судебно-медицинского вскрытия похороненного в мае самоеда Андрея Вылки, якобы случайно застрелившегося на охоте, как говорили самоеды. Андрей Вылка, по словам Б. И. Садовского, хорошо знавшего всех самоедов-колонистов, был лучшим охотником. С сентября 1910 по май 1911 года он добыл 6 белых медведей и около 70 песцов. После покойного осталась большая семья: жена с пятью дочерьми.
Вскрытие проводил доктор Теребинский, временно исполнявший обязанности судового врача, а протокол вёл Б. И. Садовский. Вскрытие не смогло точно установить, застрелился ли А. Вылка случайно или был убит товарищем по охоте. Однако не исключена возможность, что покойный стал жертвой Сядэю (дьяволу), чтобы тот послал хорошую добычу. Борисов приводит множество случаев, когда самоеды совершали убийства, даже близких людей, чтобы умилостивить Сядэя во время неудачной охоты.
Рассказ промышленника Петра Терентьева, переданный Борисовым в его книге, очень напоминает печальный случай с А. Вылкой:
"Весной 1895 года, в середине мая, — говорит Терентьев, — я пришёл из соседнего чума за 80 вёрст в чум на острове Чирачьем, около северного конца острова Вайгач. Прожил там 6 дней и уже собирался возвращаться домой, но накануне хозяева чума добыли двух моржей, поэтому я решил остаться ещё на день-другой, думая, что, возможно, добудут ещё и мы сазу рассчитаемся. Ночью они отправились на море промышлять, а я остался в чуме. Пролежав некоторое время, я пошёл к ним, тем более что открытая вода и плавучий лёд были совсем близко от берега. Один из самоедов, Ефим Окотыта (по-самоедски — Нертя Карачей), в это время гонялся за морским зайцем, а другой, Пётр Вылка (по-самоедски — Сомдё), ехал в лодке и греб. Долго они преследовали зверя, но безуспешно: тот нырял в воду, снова появлялся на поверхности и снова нырял. Самоед стрелял семь раз, и всё напрасно. Мне надоело наблюдать, и я вернулся в чум. Но не прошло и часа, как я услышал выстрел и неистовый крик. Я подумал: должно быть, самоеды убили большого моржа и зовут друг друга на помощь. Но в ту же минуту прибежал самоедский мальчик и сказал мне: "Сомдё умер“. Как умер?! Я только что видел его, и он был совершенно здоров! В ту же минуту я сбросил с себя малицу и побежал на лёд. Прибегаю, а Сомдё лежит с окровавленной грудью, мёртвый. Пуля попала ему прямо в сердце". "По словам Терентьева, — говорит Борисов, — Ефим Окотыта обещал Сядэю человеческую голову и в исполнение этого обещания убил Сомдё".
Из приведённых Борисовым примеров видно, что жертва Сядэю приносилась обычно именно так, то есть посредством обычного убийства, без каких-либо обрядов.
На третий день к полудню сдача самоедами своего промысла Б. И. Садовскому подходила к концу. В этом году промысел у самоедов был очень хорош. Обычно весь добытый самоедами-колонистами промысел должен быть передан командированному Архангельским губернатором чиновнику для продажи в Архангельске. На вырученные деньги (за вычетом 10% в запасный капитал) приобретаются для самоедов необходимые припасы, охотничьи снаряды, дрова и прочее; остаток, если таковой получится, вносится на их именные сберегательные книжки.
Такой порядок опеки над самоедами был введён Архангельским губернатором князем Н. Д. Голицыным с целью защитить некультурных и склонных к пьянству самоедов-колонистов от эксплуатации со стороны промышленников — как русских, так и норвежцев. К сожалению, эта мера не полностью достигала своей цели из-за невозможности контролировать промысел самоедов, но в любом случае она значительно улучшила их благосостояние. Для упорядочения опеки над самоедами и увеличения их заработка в 1908 году, по распоряжению Архангельского губернатора И. В. Сосновского, заведующим новоземельскими колониями чиновником были заключены с колонистами-самоедами договоры. В них был обусловлен порядок приёма и продажи предметов промысла, снабжения колонистов припасами под круговую поруку за долги, а также было вменено в обязанность не продавать промыслы на сторону норвежским и русским промышленникам, что раньше нередко практиковалось. Колонистам предъявили их личные счета за несколько лет; принимаемые от них промыслы стали продаваться в Архангельске с публичных торгов. Эти меры, в связи с развитием промыслов, быстро дали положительные результаты: уже в первый после этого 1909 год от продажи промыслов была получена небывалая до тех пор сумма — 11 763 рублей, тогда как ранее выручка колебалась от 1 700 до 8 000 рублей.
Чтобы дать приблизительное представление о количестве и стоимости промысловой добычи новоземельских самоедов, позволю себе привести цифровые данные за пять лет, взятые из таблицы № 3, приложенной к статье Б. И. Садовского "Русская колонизация Новой Земли".
За пять лет самоедами из Малых Кармакул, Маточкина Шара и Белушьей Губы было добыто и сдано Архангельской администрации:

Эти официальные цифры, однако, нуждаются в поправке. До 1908 года сдаваемый самоедами промысел продавался в Архангельске значительно ниже рыночных цен. Чтобы получить более реалистичную общую сумму, итог нужно увеличить примерно на 50%. Также можно уверенно сказать, что далеко не весь промысел сдавался и сейчас сдаётся администрации: значительная его часть — около 50% — уходила на сторону в обмен на водку. Если учесть всё это, то общая сумма заработка 22 самоедских семей составит примерно 85 000 рублей, или около 800 рублей на семью в год. Это очень большой заработок, если учитывать лень и беззаботность самоедов.
Около трёх часов пополудни, после завершения операций по выгрузке и погрузке парохода, мы распрощались с нашими спутниками — членами экспедиций Русанова и Свицына. Прощание было сердечным: всем мы от души пожелали блестящего успеха и благополучного возвращения в Архангельск. С особенным сожалением расставались мы с чрезвычайно симпатичным Эммануилом Павловичем Тизенгаузеном, членом экспедиции Русанова, которого все очень полюбили за его сердечность, необыкновенную простоту и чрезвычайно мягкий характер.
Пароход снялся с якоря и направился в Малые Кармакулы, куда мы прибыли около часа ночи. Погода была тихая и ясная.
Подъезжая к Малым Кармакулам, мы любовались довольно красивыми видами. Особенно привлекали наше внимание высокие скалистые острова, карнизы которых были сплошь усажены водоплавающими птицами, преимущественно гагарками. Такие излюбленные птицами места называются птичьими базарами; об одном из них будет рассказано более подробно ниже.
Пароход бросил якорь недалеко от берега.
Становище Малые Кармакулы (72°23') расположено на высоком месте, из-за чего часто подвергается сильным ветрам. От отца-настоятеля кармакульской церкви, который провёл здесь зиму, мы слышали, что когда дует сильный ветер, сообщение между церковью и расположенным рядом домом причта можно поддерживать только с помощью протянутой верёвки. В становище живут пять самоедских семей (в двух деревянных домах и одном чуме), фельдшер, иеромонах, настоятель кармакульской церкви с псалмщиком и сторожем. Вот и всё население Малых Кармакул — самой старой русской колонии на Новой Земле.
Фельдшерский пункт был учреждён в 1890 году по ходатайству Архангельского губернатора князя Н. Д. Голицына. На фельдшера, помимо прямых обязанностей, было возложено заведование продовольственным складом колонистов и наблюдение за содержанием в порядке зданий спасательной станции, ныне упразднённой.
Небольшая деревянная, довольно красивая внутри церковь была доставлена в Малые Кармакулы в разобранном виде и установлена там в 1888 году. Церковь построена на добровольные пожертвования. При церкви есть небольшой деревянный дом для причта, где также размещаются школа для самоедских детей и метеорологическая станция, основанная князем Б. Б. Голицыным в 1896 году. Метеорологические наблюдения ведёт псалмщик за вознаграждение в 180 рублей в год.
Говоря о Малых Кармакулах, нельзя не коснуться, хотя бы вкратце, вопроса о колонизации Новой Земли. Данные по этому вопросу заимствованы из статьи Б. И. Садовского "Русская колонизация Новой Земли".
До второй половины 1870-х годов на Новой Земле колонии не было. Впервые мысль об основании на Новой Земле спасательной станции с причтом возникла в 1870 году, когда остров посетил великий князь Алексей Александрович.
Эту идею реализовало Общество спасания на водах, получив на устройство спасательной станции в Кармакулах 25 000 рублей. В 1877 году из Архангельска были доставлены в разобранном виде большой деревянный дом и сарай для спасательного вельбота. Для занятия промыслами и наблюдения за сохранностью построек туда переселили шесть самоедских семей.
Для окончательного устройства станции и причта, а также для личного изучения условий жизни на Новой Земле был командирован корпусный флотский штурман капитан Тягин, проживший в Кармакулах с женой и прислугой с 13 июля 1878 по 5 августа 1879 года.
По ходатайству Архангельского губернатора Кошара 19 июня 1881 года было утверждено положение Комитета министров о колонизации Новой Земли русскими промышленниками-поморами на определённых условиях, включая выдачу пособия в 350 рублей каждому трудоспособному мужчине.
Учитывая, что первая самоедская колония в Кармакулах, находившаяся в ведении Архангельского Окружного Правления Общества спасания на водах, стала приходить в упадок, промыслы самоедов в основном попадали в руки русских и норвежских промышленников в обмен на водку, а здания станции не ремонтировались, Главное управление Общества спасания на водах решило упразднить спасательную станцию. Противником этого решения выступил Архангельский губернатор князь Голицын. Он предложил Главному управлению Общества передать ему все заботы о поддержании построек станции, а также снабжении поселенцев-самоедов необходимыми припасами, на что управление дало согласие.
Взяв на себя заведование спасательной станцией, князь Голицын установил порядок снабжения колонистов всем необходимым, а также продажи их промыслов в Архангельске. Вскоре он основал вторую самоедскую колонию при устье Маточкина Шара, куда переселили четыре самоедские семьи.
Глубоко убеждённый в необходимости заселения Новой Земли культурным русским элементом для более правильной организации промыслов у её берегов, князь Голицын возбудил ходатайство об оказании широкой помощи русским промышленникам-поморам при переселении на Новую Землю. Главный аргумент противников заселения Новой Земли русскими — что новоземельский климат губительно действует на здоровье европейцев — был блестяще опровергнут фактами. Например, зимовкой капитана Тягина с женой, многолетним пребыванием на Новой Земле иеромонаха Ионы и, наконец, данными члена Императорского Русского Географического общества Носилова, также проведшего зиму 1887/88 года на Новой Земле.
"Нельзя не признать, — писал Носилов в отчёте о своей зимовке, — что наши представления о полярной ночи, об ужасах бурь, метелей, цинги и прочих бедствиях Севера были сильно преувеличены. В этом отношении я не нашёл ничего особенно тяжёлого или вредного для человеческого организма, что могло бы быть результатом отсутствия света или влияния холода. Жизнь текла обычным порядком; для трудящегося человека это было почти незаметным лишением. Здоровье и душевное состояние оставались такими же, как и до ночи (описание относится к 82 дням с 30 октября по 19 января, когда солнце совсем не показывалось над горизонтом Новой Земли). Холодов ниже −33,8°С не было; штормы, хотя и частые, сменялись штилем, позволяя охотиться и работать на улице. Ни цинги, ни других болезней не наблюдалось. Иначе и быть не могло, потому что такой же жизнью живут в Сибири тысячи людей: в Обдорске, Туруханске, Верхоянске, на устьях Оби, Енисея, Лены — под той же широтой, а иногда и в местностях, где средняя температура зимы ниже, чем на Новой Земле, где благодатное влияние Гольфстрима не даёт того тепла и уравновешивания температур материка и открытого моря, которое так заметно на Новой Земле. Наконец, Новая Земля очень благоприятна для здоровья тем, что на ней нет резких перемен воздуха, замечательное постоянство не располагает к простудам, а сухой воздух уничтожает гниение летом и благотворно влияет зимой, не принося сырости в здания, которую многие учёные считают причиной скорбута и цинги".
К сожалению, ходатайство князя Голицына не было удовлетворено из-за отрицательного отношения к этому вопросу Министерства финансов.
Многое для колонизации Новой Земли сделал преемник князя Голицына — А. П. Энгельгардт. В 1894 году он переселил на Новую Землю 8 самоедских семейств, всего 37 человек.
В том же году, согласно высшему повелению, Министерство внутренних дел взяло на себя управление зданиями бывшей спасательной станции на Новой Земле, выделило 1 500 рублей на их капитальный ремонт и постановило ежегодно отпускать на эти цели 500 рублей.
На следующий год на Новую Землю было переселено 3 самоедские семьи, а в 1897 году — ещё 11 человек. Тогда же была основана в заливе Рогачёва третья самоедская колония "Белушья Губа", о которой я упоминал ранее.
После А. П. Энгельгардта вплоть до 1908 года колонизация Новой Земли практически замерла. Только при губернаторе И. В. Сосновском дело, которое почти заглохло, стало оживать. При его содействии было снаряжено несколько экспедиций для изучения Новой Земли и поиска лучших мест для её колонизации.
"В целях удешевления содержания новоземельских колонистов губернатор добился высшего повеления от 29 апреля 1909 года об освобождении в течение этого года от акцизов и пошлин на табак, чай, сахар, керосин и спички, предназначенные для Новой Земли, что снизило стоимость этих товаров на 600 рублей. Кроме того, было возбуждено ходатайство в установленном порядке о распространении на Новую Землю постоянной льготы, предоставленной жителям Мурманского берега в отношении беспошлинного получения товаров".
В 1910 году самим И. В. Сосновским был основан в Крестовой губе русский посёлок "Ольгинский", о котором речь пойдёт ниже.
Выйдя на берег, я сразу отправился в горы, находившиеся в четырёх верстах от Кармакул. Как и в Белушьей Губе, цветущих растений попадалось довольно много, но все они были невзрачными. Цветы торчали между осколками глинистого сланца. Из-за сильных ветров здесь растут только те растения, которые прячут стебли среди камней, или те, у которых стебли настолько тонкие, что не могут сопротивляться ветру, как, например, у мака. В долине между Кармакулами и горами расположено "Святое озеро", куда в день Богоявления совершается крестный ход. Из этого озера вытекает довольно быстрая речка с болотистыми берегами, на которых встречались некоторые виды злаков и осок. Попадалось много стелющейся по земле ивы. Сланцевые горы невысокие, но местами довольно крутые; кроме лишайников, растительности на них почти нет. В лощинах лежали залежи снега. В ущелье красиво с шумом падал вниз ручей, образуя небольшой водопад. Около русла этого ручья, под камнями, в большом количестве встречался жук "Keispa schuabii Raub" — новый для фауны Новой Земли вид. В полдень термометр показывал +13°R — для Новой Земли очень высокую температуру.
По возвращении с экскурсии меня пригласила компания туристов совершить поездку на "птичий базар", расположенный в семи верстах от Кармакул. Мы отправились на пароходной шлюпке, взяв с собой в качестве проводника одного промышленника. Погода сначала была относительно тихой, но по мере удаления от берега ветер стал усиливаться, лодку начало подбрасывать. Мрачный остров, к которому мы приближались, представлял собой высокую почти отвесную скалу, карнизы которой были сплошь усажены гагарками. В одном месте мы заметили углубление в скале с небольшой площадкой почти на уровне океана. К этому месту и направили лодку. Волна выбросила нас на площадку, и мы, выскочив на берег, оттащили лодку подальше от воды, чтобы её не разбило о камни. Вся наша большая компания теснилась на небольшой площадке, покрытой галькой и разбитыми птичьими яйцами, и любовалась редким зрелищем. Несмотря на присутствие людей, гагарки, сидевшие на яйцах на высоте 8–16 метров над нами, не проявляли никакого беспокойства. Один из наших спутников, хороший гимнаст, взобрался почти по отвесной скале до карниза, взял сидевшую на яйцах гагарку и спустился с ней вниз. Наши охотники сделали несколько выстрелов, но это напугало далеко не всех птиц: те, что слетали от испуга, вскоре возвращались обратно. Подкрепившись взятыми с собой запасами и налюбовавшись интересным зрелищем, мы стали собираться в обратный путь. Многие из нас сомневались, что нам удастся благополучно отплыть от скалистого острова при такой сильной волне. Особую сложность представляло наличие в компании женщин. После долгого совещания решили сначала посадить дам в шлюпку, а всем мужчинам дружными усилиями столкнуть её в воду, быстро запрыгнуть и оттолкнуться. Манёвр удался. Отплыв на десять метров от опасной скалы, мы вздохнули с облегчением. Дальнейший путь уже не представлял опасности. Почти одновременно с нами вернулась партия охотников во главе с адмиралом Бирилёвым. Охота была удачной: они настреляли около десятка гусей.
На следующий день я знакомился со становищем: посетил дома самоедов, фельдшерский пункт, побывал в церкви и в доме причта, где отец настоятель угостил меня прекрасной пшённой кашей. Домик причта очень уютный, но, как и у самоедов, при нём нет ни двора, ни сарая, ни амбара.
После завтрака я вместе с доктором Долгополовым и ветеринарным врачом Нагорским вновь отправился в горы. К полудню температура понизилась до +4°R. Мы взобрались на самую высокую точку горного хребта, откуда открылся великолепный вид на Кармакульские шхеры. Сделав несколько фотографий, спустились вниз кратчайшим путём.
По возвращении в Кармакулы нам представился случай увидеть езду на собаках. В небольшую тележку, привезённую для одного самоеда из Архангельска, были впряжены 10 собак. Как только самоед хореем в руках сел в тележку, собаки с визгом и лаем рванули с места и с невероятной быстротой пронеслись около четверти версты. Такой пробег повторялся несколько раз, и в последний раз к самоеду в тележку сели два туриста. На этот раз поездка закончилась трагикомедией: тележка, плохо управляемая возницей, наехала на камень и опрокинулась. К счастью, любители собачьей езды отделались лёгкими ушибами.
Около полуночи пароход принял последнюю партию промысла, включая двух белых медвежат, и снялся с якоря. Термометр показывал всего +1°R. Вместе с нами из Кармакул отплыл настоятель кармакульской церкви, на смену которому прибыл иеромонах Красногорского монастыря.
В Маточкин Шар (73°17’ с. ш.) мы прибыли к полудню 13 июля. Погода была пасмурная и холодная. Достаточно высокие горы со снежными залежами подходили почти к самому берегу. Временами их вершины заволакивало облаками. В конце бухты, в долине между двумя горными вершинами, располагалось самоедское становище с четырьмя домами, один из которых — довольно большой — был построен на казённые средства специально для художника Борисова.
Пароход остановился в трёх верстах от берега. Среди приехавших встречать нас самоедов был новоземельский старожил Константин Вылка, отец художника Ильи Вылки. Пассажиров перевозили на берег в несколько приёмов.
На месте будущей часовни иеромонах отслужил молебен, после чего я осмотрел дом художника Борисова. Самая просторная комната с большим итальянским окном, вероятно, служила мастерской. В этой ныне необитаемой комнате сохранились вещи, оставшиеся от художника: великолепная металлическая кровать и письменный стол хорошей работы. В остальных комнатах дома жила самоедская семья. Рядом с домом стояла небольшая подвижная будка с двумя окнами по бокам — в ней Борисов писал свои этюды с натуры.
Мои энтомологические экскурсии в окрестностях Маточкина Шара были крайне скудны по результатам. Заслуживает внимания лишь один найденный мной вид из отряда Nepidae, который стал новинкой для бедной фауны Новой Земли. Второй день пребывания в Маточкином Шаре, несмотря на относительно тёплую погоду (+5°R), также почти ничего не дал для энтомологического сбора. Флора и фауна жесткокрылых здесь значительно беднее, чем в Кармакулах.
Выгрузка и погрузка парохода шли очень медленно из-за большого расстояния до берега и нехватки рабочих рук: большинство самоедов оказались неспособны к работе из-за злоупотребления алкоголем. Под вечер на пароход доставили четырёх живых песцов и одного белого медвежонка.
Поздно вечером пароход покинул угрюмый Маточкин Шар и направился к последнему новоземельскому становищу. В Крестовую губу, где располагался посёлок Ольгинский, пароход вошёл около 8 часов утра. Глубокая губа прекрасно защищена высокими горами, обильно покрытыми снегом. Панорама Крестовой губы с её красивыми горными вершинами, могучими ледниками, спускающимися почти к самому морю, бухтами и островами особенно хороша при солнечном освещении.
Посёлок Ольгинский (74°17’ с. ш.) состоит всего из одного большого деревянного дома с четырьмя комнатами, без каких-либо хозяйственных пристроек. В прошлом году сюда переселили четыре русские семьи крестьян из Шенкурского уезда — одного из самых южных в Архангельской губернии; к ним присоединили ещё две семьи промышленников, включая известного Якова Запасова, приехавшего на Новую Землю с устья Печоры на лодке около двадцати лет назад. Раньше Запасов жил в Маточкином Шаре.
Колонисты-новоселы, появившиеся на пароходе, были буквально засыпаны вопросами пассажиров, которым ещё в Белушьей Губе доходили слухи, что в Крестовой губе не всё благополучно. Ответы колонистов о жизни за истекшие 10 месяцев были неутешительными: продовольствия не хватило, под конец им пришлось питаться почти одним хлебом. Все женщины заболели цингой, а одна из них — жена молодого колониста Бомина — умерла. Промыслы были скудными. Жаловались на сырость в доме.
После осмотра жилища колонистов мы убедились, что дом был построен из слишком сырого материала. В одной из комнат сырость была настолько сильной, что жители подвесили под потолком парусину, чтобы вода не капала на пол. Чистота и порядок в доме произвели на нас самое благоприятное впечатление; если бы не сырость и отсутствие хозяйственных пристроек, жилище можно было бы признать прекрасным. Доктор Т. осмотрел всех женщин-колонисток. К счастью, цинга у них была выявлена в лёгкой форме. На следующий день колонистки перебрались на пароход, чтобы ехать лечиться в Архангельск. Вероятно, плохое питание, сырость и малоподвижный образ жизни женщин стали причиной цинги, которая не коснулась мужчин, проводивших большую часть времени на охоте.
Неудачный промысел новоселов, на мой взгляд, объясняется прежде всего незнакомством колонистов — уроженцев лесной полосы — с условиями жизни и промысла на Новой Земле. По-моему, более подходящим элементом для колонизации были бы крестьяне из северных приморских уездов Архангельской губернии, где природа ближе к новоземельской.
Насколько успешными были промыслы почти в том же месте у норвежцев, можно судить по следующей выписке из "Обзора деятельности Новоземельской экспедиции 1909 года":
"На берегу лежали закупоренные и полностью подготовленные к отправке бочки, наполненные продуктами промысла: частью салом и жиром морского зверя, частью гольцами — ценной рыбой, родственной семге. Русанов насчитал 30 бочек, из которых только две ещё не были заполнены. По словам норвежцев, промысел был неплохим, а прошлой зимой они убили здесь пять белых медведей".
Всё это богатство добыли всего три норвежских промышленника. О масштабах их промысловой добычи можно судить по следующим данным из статьи "Иностранные промыслы на Русском Севере":
"По свидетельству доктора Петермана, в 1870 году из южной Норвегии на север к Новой Земле отправились 18 судов для звериного промысла и добыли зверя почти на 40 000 рублей, причём чистой прибыли получили более 8 000 рублей на каждое судно. В следующем, 1871 году, только из небольшого города Гаммерфеста в Ледовитый океан вышли 62 судна с командой в 480 человек, получившие чистой прибыли 84%.
В 1893 году крейсер "Наездник", командированный для охраны северных территориальных вод от иностранных браконьеров, арестовал 6 норвежских шхун с 1 000 тюленями, большим количеством рыбы и целым китом.
В 1906 году, во время плавания на Мурмане адмирала Бострема, на осмотренной им 23 сентября в Гаммерфесте норвежской шхуне, только что вернувшейся с восточного берега Новой Земли, оказалось более 100 убитых и 3 живых молодых моржей, 12 шкур белых медведей и 5 живых медвежат. Стоимость этой добычи составляла не менее 10 000 рублей.
В 1908 году на двух норвежских шхунах, заходивших в Поморскую губу Маточкина Шара, было обнаружено 29 живых белых медвежат, 100 шкур морских зверей и 2 500 пудов звериного сала.
Согласно сведениям, опубликованным в № 9 журнала "Русское Судоходство" за 1909 год, 27 июля в Тромсё из "Восточного льда" (Новоземельского пространства) вернулось промысловое парусное судно "Минерва" с 16 убитыми и 8 живыми белыми медведями, а 21 июля — промысловый пароход "Самсон" с 6 700 горбоносыми тюленями и 15 нарвалами общей стоимостью в 100 000 крон.
20 июля в Гаммерфест вернулось промысловое судно "Шат Воо" с 2 300 тюленями, 25 морскими зайцами и 350 бочками звериного сала. Капитан сообщил, что и многие другие суда возвращаются с хорошим уловом. В тот же день на пароходе "Вега" оказалось 6 000 горбоносых тюленей, 27 нарвалов и 2 200 бочек жира".
Говоря о расхищении наших северных богатств иностранцами, нельзя не коснуться самого болезненного вопроса — охраны северных территориальных вод.
Сейчас наши северные воды охраняет военное судно "Бакан", о котором я упоминал в начале очерка. Чтобы избежать обвинения в преувеличении при описании "крейсерских" качеств этого бесполезного, но дорогостоящего судна, позволю себе привести отзыв о нём из статьи "Иностранные промыслы на Русском Севере", опубликованной в официальном сборнике:
"Обычно "Бакан", зимующий в Либаве, прибывает в наши северные морские воды слишком поздно — спустя долгое время после начала звериного промысла в горле Белого моря, а уходит на зимовку чересчур рано, до окончания осенних морских промыслов. При этом транспорт не отвечает требованиям охранной службы, так как:
- при водоизмещении в 815 тонн развивает скорость всего 9 узлов, тогда как иностранные траулеры, промышляющие в наших северных водах, ходят со скоростью 10–13, а иногда и до 15 узлов;
- из-за недостаточной вместимости угольных ям и большого суточного расхода угля (1 000 пудов) может брать запас топлива всего на 8 суток хода, что при отсутствии угольных станций на берегах Северного Ледовитого океана (кроме Александровска) сильно ограничивает действия транспорта и делает его непригодным для продолжительного крейсерства;
- неприспособлен для плавания во льдах и имеет конструктивные недостатки, затрудняющие его использование во время сильных штормов. Эти дефекты "Бакана" полностью объясняют, почему, как справедливо отмечает норвежская газета "Afftenposten", в последние годы не было случаев конфискации этим судном норвежских промыслов".
К этому стоит добавить, что названное судно никогда не поднималось севернее Маточкина Шара. Таким образом, вся северная половина берега Новой Земли с богатыми моржевыми лежбищами оставалась без какой-либо охраны.
Ознакомившись хотя бы поверхностно с нашими северными морскими промыслами и с так называемой охраной наших богатств, невольно убеждаешься: вопрос о колонизации Новой Земли и охране наших территориальных вод должен быть окончательно решён — либо мы отказываемся от колонизации Новой Земли и оставляем наши северные богатства в пользование иностранцам, либо ставим колонизацию и охрану на широкую ногу, не жалея на это средств. При правильной организации дела наш северный промысел может занять не последнее место в государственном хозяйстве и с лихвой окупить все затраты.
Если вопрос будет решён положительно, то, на мой взгляд, необходимо принять следующие меры:
- Для развития отечественного промысла и территориальной охраны покрыть западный берег Новой Земли сетью колоний вплоть до её северной оконечности.
- Заселять колонии преимущественно культурным и обязательно трезвым элементом из поморов, оказывая им самую широкую поддержку, чтобы они ни в чём не нуждались.
- Безусловно запретить ввоз алкоголя в любых его видах на Новую Землю, а также в Мезенский и Печорский уезды.
Связать телеграфом хотя бы одно центральное становище с Архангельском. Для управления телеграфом можно пригласить интеллигентное лицо из числа добровольных поселенцев Архангельской губернии — желающих послужить культурному делу будет достаточно.
Охрану территориальных вод возложить не на одно, а на два быстроходных крейсера, которые должны зимовать в Александровске. В интересах дела крейсера должны быть не военными и находиться в ведении Главного управления землеустройства и земледелия как более заинтересованного ведомства. Содержание двух невоенных крейсеров обойдётся не дороже одного военного, а пользы будет несравненно больше.
Окрестности посёлка Ольгинского почти лишены растительности, за исключением склонов холмов, обращённых к югу и хорошо защищённых от ветров. В таких местах растительность несколько богаче, здесь также преобладают незабудки. Из насекомых мне удалось найти только два мелких вида из семейства Staphylinidae под камнями, несмотря на самые тщательные поиски.
Вечером на второй день пребывания в Крестовой губе я вместе с некоторыми туристами был на новоселье у членов экспедиции — А. В. Иванова, Н. Н. Неуймина и Г. И. Оппокова, перебравшихся с парохода в дом колонистов, где им отвели одну комнату. Новоселы за день привели свою новую квартиру в полный порядок. Время пролетело незаметно в оживлённой беседе. Около часа ночи пришлось возвращаться на пароход, который скоро должен был сняться с якоря. Прощание носило грустный характер: нам было неприятно покидать милых и интересных товарищей, а им, обречённым на двухмесячное одиночество, ещё тяжелее было расставаться с нашим обществом.
Погода испортилась: термометр опустился до +4°R, пошёл сильный дождь. В 2:30 ночи пароход под ружейные выстрелы с берега покинул Ольгинское. Несмотря на плохую погоду, мы долго стояли на палубе, махая оставшимся платками. Наконец Ольгинское скрылось из виду, и мы спустились в каюту. Ветра не было, поэтому мы, пассажиры, предполагали, что обратное плавание пройдёт без качки. Увы, наши расчёты не оправдались.
Около восьми часов утра, когда я проснулся, пароход сильно покачивало с боку на бок. Необычную для этого времени тишину в нашей каюте нарушал только тихий стон моего соседа по койке, доктора Д., страдавшего от приступов морской болезни. За всё время 48-часовой качки доктор Д. не вставал с койки и, разумеется, не принимал ни пищи, ни питья. Впервые пришлось пить чай в крайне неблагоприятной обстановке. Не раз приходилось прерывать чаепитие, чтобы помочь доктору Д., когда приступы становились особенно острыми. После чая я поднялся на палубу. Там было почти пусто: только у трубы грелась небольшая группа пассажиров, да кое-кого я встретил на капитанском мостике — месте, считающемся лучшим во время качки. Здесь я провёл большую часть дня. Крен парохода доходил до 28°. Обед в тот день был из рук вон плох. И неудивительно: буфетчик и официант заболели, а повар, чтобы избежать морской болезни, принял слишком много алкоголя. Обедающих было очень мало; только норвежцы во время всей качки исправно завтракали, обедали и ужинали. К вечеру из-за простуды у меня появилась лихорадка, пришлось принять аспирин; весь следующий день я не покидал койки.
К ночи качка стала заметно уменьшаться, а к утру и вовсе прекратилась. Показались берега Лапландии. День был чудесный. Вместе с изменением погоды до неузнаваемости изменились и пароходная обстановка, и настроение пассажиров. На палубе снова стало оживлённо, каюты опустели. Даже доктор Д. появился среди нас, как будто с ним ничего и не было.
Время летело быстро. Снова остановка у плавучего маяка, чтобы принять лоцмана. А вот и устье Северной Двины.
Около шести часов вечера мы уже подходили к пристани Архангельского Мурманского пароходства. Сделав здесь короткую остановку, пароход направился к другой, более удобной пристани у монастыря, где и бросил якорь.
На следующий день я проводил своих спутников по путешествию, о которых у меня остались самые лучшие воспоминания, а через день и сам покинул Архангельск.
Г. Г. Сумаков, Юрьев, 1911 г.
Сборник учено-литературного общества при Университете. 1912 г.