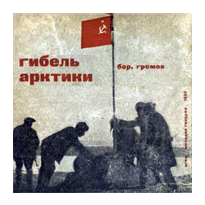Новые материалы
Про собаку Лайду, белых медведей и северных оленей

На арктических островах встреча с Polar bear не редкость, хотя бывали сезоны, когда они были единичны. Зависит это в первую очередь от ледовой обстановки, которая, в свою очередь, в значительной степени определяется ветрами. Когда льды около берега, то и нерпы много, а медведи её очень любят. Вместе с тем, в одних и тех же местах при близкой ледовой обстановке в разные годы количество их бывает очень различно, т.е. оно зависит ещё и от их ежегодных миграций. Если говорить о конкретных архипелагах, то, например, на Новой Земле их обычно гораздо больше на восточном, карском побережье. Достаточно много их и на юге, в проливе Карские ворота. Встреч с этими косолапыми было много, но запоминающихся – хватит одной руки посчитать на пальцах.
В 1980 г., когда я ещё работал под знамёнами В.Д. Крюкова в АКГГЭ, перед нашим отъездом в поле на вездеходе из пос. Белушья Губа, подошёл незабвенный Виталий Иванович Устрицкий с собакой на руках и сказал: "Возьмите с собой. Хорошая собака, сейчас без хозяев. Зовут её Лайда". И Лайда поехала с нами. В том отрывке, который изложу ниже, помимо Лайды, будут фигурировать не только белые медведи, но ещё гуси, лебеди и другая собака.
Итак, мы отправились в путь. Лайда оказалась очень тихой и воспитанной собакой, совсем не докучавшей нам. Помимо прочего, она предпочитала не ездить на вездеходе, а бежать вслед за ним. Когда мы, сделав ряд маршрутов, добрались до п-ова Пиритовый, что на юго-западе архипелага в проливе Карские Ворота, всё юго- западное побережье п-ова Пиритового было забито льдами. Не успели мы поставить палатки и задуматься, что будем готовить на обед, как услышали её лай. Выйдя из палатки, увидели, что за вездеходом совсем близко от нас стоит белый медведь, около которого вертится и чуть ли не хватает его за нос Лайда. Медведь поспешил ретироваться.
Две или три медвежьих семейки мы видели на льду в проливе. Причём одна мама с двумя детками и пестуном квартировала совсем недалеко – метрах в 250 от лагеря. На нас они никакого внимания не обращали, тем более что рядом с ними на снегу лежал убитый мамой тюлень. Вездеходчик, бывший танкист Сов. Армии Слава Иванов, побывавший на танке в 1968 г. в Чехословакии, всё время нашего пребывания в этих местах спал в крытом кузове вездехода, отапливая помещение на ночь паяльной лампой. Лайда вообще очень любила гонять медведей, и это у неё получалось; вероятно, потому, что были они сытые. Однако как-то, переезжая на новую стоянку, мы были свидетелями, как она погнала очередного косолапого. Он вначале побежал от неё, потом вдруг развернулся и двинулся ей навстречу. Лайда рванула от него, медведь отстал; тогда она опять стала его преследовать и т.д.
Ещё её страстью были линялые гуси (гуменники, казарки) и лебеди со своими отпрысками. Гуси, впрочем, уже заканчивали линьку. Всё же Лайда порой умудрялась находить ещё не поднявшихся на крыло и очень ловко, как пассатижами, перекусывала их шеи. Это мы даже приветствовали, а вот простить ей те же операции с лебедями не могли. Однако и не могли ничего поделать. На просторах очень плоской с многочисленными, подчас весьма мелкими озёрами тундры лебедей, гусей и уток гнездилось много. Лайда, бегущая по тундре то с одной, то с другой стороны от вездехода, нередко успевала гораздо раньше нас увидеть лебединую семью и неслась к ней на "всех парусах". Мать и отец-лебеди очень трогательно защищали своих малышей, иногда даже отгоняли её, но редко. Обычно же Лайда очень ловко орудовала своими челюстями, а нам, с опозданием подъехав, оставалось только подобрать её добычу. Кстати, лебедей она не ела, да и гусей, кажется, тоже. Зато у нас в полутораведерной кастрюле на стоянках постоянно тушилось гусиное и лебединое филе и ножки. Здесь надо сказать, что лебедь далеко не такой благородный и вкусный, как принято считать. Мясо его жесткое, какое-то синеватое, к тому же, когда его разделываешь, оно неприятно пахнет и т.д. Между прочим, таково же мнение о лебедях у Аксакова, который пишет, что в старые времена на пиршествах тушкой лебедя с оперением накрывали различное мясо и птицу, т.е. она исполняла чисто декоративную роль. Об этом всё.
Одна из последующих наших стоянок была на юго-востоке архипелага в проливе Карские Ворота. Мы приехали туда во второй половине дня. Был туман, низкая облачность, ветер и т.д. Поставив лагерь и поев, забрались в палатки и заснули. Проснувшись среди ночи, я услышал, как кто-то очень громко и плотоядно грызёт кость. Вылез из спального мешка, взял карабин и осторожно выглянул из палатки. Чуть в стороне от двух наших палаток и вездехода кость грыз плохо различимый в тумане белый зверь. "Медведь" - мелькнуло в мозгу. А где же наша сторожиха Лайда? Что-то её не слышно. Тут-то я и увидел, что она лежит недалеко от нашей палатки, свернувшись клубком, и спокойно сопит в две носовых дырочки. Оказалось, что белый, точнее, беловато-серый с чёрными пятнами зверь – собака с военной точки мыса Меньшикова. Как мы потом узнали, где-то в этих местах её подобрал другой отряд нашей партии, будучи здесь проездом на Карское побережье. Потом она то ли убежала, то ли отстала от этого отряда. Выяснилось, что, пока мы её не подобрали, она недели две провела одна в тундре, Собака была молодая, глупенькая (это, ладно), но ещё – и вороватая, а это хуже.
***
В 1983 г. я проводил тематические исследования на восточном побережье о. Северный Новой Земли в районе горы Чёрной. Там по данным тридцатилетней давности известен гранитный массив, прорывающий отложения среднего и верхнего палеозоя. Вот к этому месту нас со студентом и доставил вертолёт Ми-8. На топооснове здесь показана промысловая изба, но я прекрасно понимал, что её там может и не быть. Ведь всё местное население (преимущественно охотники-промысловики с семьями) в 1953 г. было эвакуировано на материк, а ведь любое жильё требует присмотра, тем более в местах, где порой дуют ураганные ветры. К тому же ещё и, так называемый, человеческий фактор, когда вместо избы, показанной на карте, встречаешь лишь нижний сильно обгоревший венец. Поэтому, помимо еды и прочего, мы взяли с собой две палатки и для их утепления рулон рубероида.
Дом, однако, стоял там, где ему и положено, и был великолепен. Это была крепкая пятистенка из пронумерованных брёвен лиственницы. Жилая часть состояла из горницы на всю ширину дома и двух смежных с ней небольших комнат, которые отапливались кирпичной печкой, сложенной на их границе и топящейся из большой комнаты. Была ещё и печь со щитком. Мы выбрали комнату поменьше – ту, что дверь слева. Всё было очень аккуратно. Более того, в большой комнате висела лампа, а на стене был выключатель. Студент подошёл к нему и включил. Я при этом саркастически засмеялся и, как оказалось, зря – лампочка зажглась, поскольку была проводами подсоединена к батареям, стоявшем в тёмном углу комнаты. Да-а, класс! Потом мы узнали, что в этом помещении жили военные топографы. Спасибо им большое! Но печка дымила, а в крыше были дыры. Вот тут-то и пригодился наш рубероид. Пришлось лезть на крышу, латать её и чистить трубу, что мы и исполнили.
Всё здесь было здорово – и геология, и окружающая природа с обилием проточных озёр, соединяющихся узкой перемычкой с морем и богатых гольцом и палией. Приехавшие сюда позднее геологи Арктической КГРЭ, двое из которых поселились в соседней комнате, назвали это место "Филиалом Рая". Наша со студентом Серёжей Плещенко комната была размером примерно 2.5×3-3.5 м. Слева и справа от входа находились нары, а между ними большое окно с видом на море. Стёкла в нём отсутствовали, мы частично забили их фанерой, а частично – плёнкой. Серёжа спал справа, я – слева. Кажется, на третий или четвёртый день нашего пребывания в доме, когда мы уже во всю маршрутили, я крепко спал, лёжа на боку, лицом к стене – день-то стоял полярный!
Вдруг, сквозь сладкий сон, до моего сознания дошёл какой-то странный звук. Я перевернулся в спальном мешке направо и, опершись на правый локоть, инстинктивно посмотрел на окно, затянутое полиэтиленовой плёнкой, которая выгнулась в сторону комнаты правильным конусом. "Поразительно, как ветер избирательно дует" — мелькнула в моей сонной башке глупая мысль. В следующий момент плёнка порвалась, и в проёме окна появилась здоровенная белая морда с черным влажным носом и маленькими глазками.
Да, это был хороший экземпляр Polar bear! Морда его была так близко, что я легко мог бы ударить по её носу кулаком, а потом бы всю жизнь этим гордиться. Но в действительности я поступил совсем не так: как будто подброшенный пружиной, вылетел из спального мешка, крича почему-то: "Куда прёшь!". От моего истошного крика проснулся Серёжа и тоже вскочил на ноги, схватив ружьё, которое висело над его нарами на стене. Но косолапый уже улепётывал, что есть сил. Причиной его любопытства, вероятно, были камуса, снятые студентом с оленя и лежавшие под нарами.
***
В 1984 г. наш тематический отряд из трёх человек работал на северо-восточном (Карском) побережье Новой Земли от устья р. Быстрой на юге до мыса Константина и р. Ущелье на севере. Не успел вертолёт, доставив нас сюда из залива Иностранцева, что на северо-западе архипелага, улететь, как к нам, сидящим на выгруженных вещах, поспешил персонаж в "белом халате", но не врач. Изучив обстановку, он отправился дальше.
Медведей в тот год было в этих местах очень много. Все они двигались с юга на север, шли в сторону льдов, поджавших нерпу к берегам. На выполаживании береговых обрывов, где были снежники, вдоль них там и сям торчали террикончики медвежьих экскрементов, состоящих почти исключительно из переработанной морской капусты и различных других водорослей, а также мелких крабов и рачков. "Мясо-мясо, вперёд на север за тюленьим жиром и мясом" — пели медведи, идя на север, и не обращая на нас особого внимания.
Кажется, в первый же маршрут мы встретили семь зверей. Причём, я, оруженосец, умудрился оставить ружьё на одной из точек наблюдения, обнаружив это только тогда, когда мы, выглянув из-за скалы, увидели совсем недалеко от нас двух медведей. Пришлось осторожно пятиться назад и затем быстро двигаться к месту, где оружие было оставлено. Постепенно мы попривыкли, да и их, похоже, стало меньше. Они нас не трогали, мы их тоже.
Дней через десять, маленькое судёнышко капитана Шаргаева с отрядом В.И. Бондарева переправило наш отряд севернее, в район мыса Константина, южнее которого, в бассейне р. Неблюйной, обнажается эталонный разрез конца кембрия – силура с органикой чуть ли не всех граптолитовых зон, замечательно описанных в монографии выдающимся специалистом Р.Ф. Соболевской. Там, где мы высадились, была когда-то промысловая изба, но от неё ничего не осталось, кроме частично сгнившего пола. Всё же это было лучше, чем ничего. К тому же плавника разных габаритов и форм было здесь немерено.
Мы установили две (4-х и 2-х местную) палатки прямо на пол, а потом с радистом вокруг них по всему периметру соорудили ограду высотой более двух метров. Сделали также дверь на петлях, которая на ночь запиралась на крюк, найденный среди остатков прежнего жилья. Сбоку от нашей 4-х-местной палатки в заборе на высоте около метра было небольшое окно, которое на ночь изнутри закрывалась крышкой от ящика. Так мы старались обезопасить себя от непрошенных гостей, которые продолжали проходить мимо нас. Есть даже слайды с медведями, сделанные из укрытия с очень близкого расстояния.
Попозже, уже в сентябре, когда выпал снег, одна мамаша с двумя медвежатами провела вблизи нас две или три ночи, затем двинулась дальше. Наш радист, остававшийся в лагере один, когда мы уходили в маршрут, соорудил хитроумный агрегат, использовав для этого бочку из-под бензина. Сделав из плавника козлы, он подвесил на них бочку, а затем огородил лагерь найденной проволокой. На проволоке вблизи бочки болталась кувалда и, когда кто-нибудь задевал проволоку, кувалда била по бочке. Потом он этот агрегат усовершенствовал таким образом, что кувалда ударяла в капсюль патрона от ракетницы и т.д. Но теория порой бывает всё же далека от практики. При сильном ветре, а здесь он был нередок, мы подчас ночью вскакивали от выстрела ракеты и хватали оружие, но зря. Поэтому пришлось ограничиться только ударом кувалды о бочку, но и это пришлось вскоре прекратить.
Как-то мы решили устроить в 2-х-местной палатке баню. Мылись по очереди, я был последним. Не успел я домыться, как меня позвали наружу. И было из-за чего. Над нашим закрытым входом красовалась голова медведя. Выглядела она очень впечатляюще, а медведь очень упорно хотел к нам проникнуть, невзирая на выстрелы из ружья, карабина и ракетницы. Потом его голова пропала, показавшись затем в лазе-окне (сбоку от палатки), который мы закрывали на ночь крышкой от ящика. "Стрелять?" - спросил радист". "Конечно", - ответил я. Медведь уже целиком просунул морду в окно. Радист выстрелил в ухо и положил конец инциденту. Всё же этот упорный мишка испортил нам вечер. Мы собирались рубануть макарон с тушёнкой и немного выпить, но пришлось сначала снять с медведя, который оказался совсем небольшим, шкуру. Возвышаясь над забором, выглядел он весьма внушительно, во-первых, потому, что у страха, как известно, глаза велики; во-вторых, — потому, что, вероятно, задними лапами стоял на толстой поперечной доске.
Интересный случай с участием медведя произошёл с известным исследователем среднего палеозоя Новой Земли Николаем Соболевым в губе Сев. Сульменёвой, кажется, в 1975 г. Коля вышел из избы, чтобы набрать из протекающего недалеко ручейка воды в чайник. Был он в кедах. Пока набирал воду, не заметил, как подошёл медведь, настроенный серьёзно. Коля стал махать чайником. Когда медведь ринулся к Коле, тот оступился и упал, а медведь ещё и на ногу ему когтем наступил, порвав кеды. Тут Коля обозлился и, вскочив, ударил зверя чайником по носу. И это было то, что нужно, – зверь убежал. Ведь нос у животных самое слабое место, чем и пользуются дрессировщики.
Закрывая новоземельскую медвежью тематику, скажу, что мне известен единственный случай нападения белого медведя на человека летом на Новой Земле со смертельным исходом. Произошло это осенью 1978г. Военный топограф ночью вышел из палатки и был убит одним ударом лапы, медведь схватил его и утащил на льдину. Медведя этого потом застрелили. В конце сентября того же года в самый центр пос. Белушья Губа пришёл небольшой медведь и спокойно устроился на ночлег около гостиницы. Дети подходили к нему и кормили, хотя по громкой связи постоянно звучало, что родители не должны позволять им это делать. Мы уже вернулись с полевых работ, и я сам видел этого медведя. В конце концов, медведя усыпили и сонного на вертолёте увезли на ближайший большой остров Междушарский. Лётчики рассказывали, что на следующий день он переплыл пролив и направился в сторону посёлка. Вкусно там кормят!
***
Олени дикие. В Колымо-Омолонском междуречье и на Чукотке настоящих диких оленей (сокжоев, карибу) нет. Все те, что встречаются иногда, являются бывшими домашними. С другой стороны, домашний олень – это одомашненный бывший дикий олень. Всё же такие сбежавшие и одичавшие олени бывают подчас крупнее домашних, достигая массы более 100-150 км. А вот на арктических островах олени дикие, но, вероятно, тоже могли в прошлом быть одомашненными, а затем убежать и перейти по льду или переплыть на острова.
На Южном острове Новой Земли диких оленей много, оценки численности их популяции различны и сильно зависят от падежей, которые периодически происходят из-за оттепелей, а затем гололёда, когда они не могут добывать пропитание (карликовую ивку, ягель и т.д.), пробивая лёд копытом. В зависимости от времени года олени мигрируют то с крайнего юга на север, то наоборот.
Во второй половине июля 1978 г. наш отряд, двигаясь на вездеходе на юго-восток от залива Рогачёва, дня полтора наблюдал передвижение кочующих оленьих стад. Интересно, что если вожак обособленной группы перебежал перед вездеходом, то и всё стадо обязательно будет бежать до те пор, пока не обогнёт вездеход спереди; даже, если оленям для этого придётся бежать не одну сотню метров. Последними бегут самки с детёнышами и тоже обегают вездеход спереди, порой выбиваясь из сил, если придурок за рычагами не останавливается и не даёт им передышки. Среди оленей Новой Земли явно различаются два подвида. Один представлен относительно низкорослыми животными (и такие преобладают), другие – высокие, крупные, на более длинных ногах и с более крупными рогами. Как правило, вторые не образуют крупных групп и чаще вообще одиночны.
Во время гона (свадеб) некоторые самцы, вероятно, находящиеся в фаворе у противоположного пола, очень устают. Вот два примера, свидетелем которых я был. Осенью 1979 г. мы работали на левом берегу р. Рогачёва и одноименной губы. Было как раз время оленьих свадеб, к тому же олени были кругом. Мы ехали на 71-ом, сидя на самодельной скамейке вездехода над вентилятором, клонило ко сну. Среди нас были студенты, интересующиеся камусами и рогами. Здесь же с прошедшей зимы до сих пор оставались падшие олени, шкуры которых сильно подсохли и частично подгнили, но камуса изредка ещё годились. Студент постучал по кабине водителю, чтобы тот остановился. Затем он подошёл к группе стоящих оленух, около которых лежал мёртвый (?) олень с прекрасными рогами, что бывает редко, поскольку их концы сразу же успевают обгрызть мышки. Оленухи разбежались. Студент взял оленя за рог, но тот вдруг вскочил и рванул от него, задрав свой короткий хвостик, из под которого на землю сыпались горошинки. Второй случай был на Шпицбергене, где сотрудник ВНИИОкеангеологии Борис Васильев подошёл к подобной группе разбежавшихся оленух и шлёпнул их спящего "утомлённого солнцем" кавалера по заду. Тот вскочил только после второго хлопка.
На арх. Шпицберген олени очень своеобразны. Они - какие-то толстенькие с большими мордами, с короткими относительно тонкими ножками. Бродят они повсюду, заходят в жилые посёлки и нередко людей совсем не боятся. Прямо около аэропорта, вблизи угольных разрезов их можно наблюдать иногда сразу же после вылазки из самолёта рейса Осло-Лонгийр. Штрафы за браконьерство здесь очень велики. Вместе с тем, по крайне мере, с начала нового XXI века на Свальбарде стали выдавать лицензии на отстрел этих животных. Вероятно, их сейчас кое-где переизбыток и, может быть, всем не хватает корма. В сентябре 2003 года в Баренцбурге, когда мы уже были на базе Шпицбергенской партии, появился бывший норвежский шахтёр, знакомый А.Н. Сироткина и А. Бирюкова. Он, закончив своё пребывание в Лонгийре, и уехав в Норвегию, там, имея начальный шахтёрский капитал, разбогател и стал миллионером. Его хобби – охота. Он ездил на сафари (на львов, слонов и т.д.) в Африку и, кажется, в Индию. А тут, ностальгируя по Шпицбергену и помня, что русские тоже могут выпить, решил поохотиться на оленей (reindeer΄s). Избрал он для этого Землю Норденшельда, что напротив, через залив, русского рудника Баренцбург, а в качестве шерпов и фото- кинооператоров взял Андрея Бирюкова и Васю Дымова. Чтобы совсем не было скучно, с материка он захватил с собой длинноногую фру выше его чуть ли не на голову. Вася отснял, как всегда, прекрасный фильм, который показывал нам потом на базе партии с соответствующими комментариями. Теперь, к сожалению, его уже нет среди нас, а был это очень талантливый, любознательный и добрый человек.
Отрывок из рассказа "Люди и звери"
Заслуженного геолога РФ Евгения Александровича Кораго