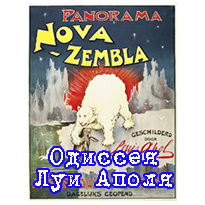Из записок Командующего флотом

Арктический архипелаг
Однажды, находясь в подобном сосредоточенном настроении, я перебирал в памяти предстоящие дела, когда вкрадчиво звякнул ВЧ-правительственный телефон и дежурный офицер архангельского узла сообщил, что командующего флотом просит на связь командир Новоземельского полигона контр-адмирал Чиров. А у меня тут же мелькнула мысль, что до конца мая предстоит-таки еще один полет и в этот раз на Новую Землю.
С Валентином Кузьмичом Чировым мы вместе служили в Ленинградской ВМБ, где он командовал Кронштадтской дивизией кораблей. И надо сказать, что хорошо командовал. Именно тогда мы затеяли и провели пару крупных оперативных учений, возродили практическую отработку десантных действий, организовали надежное взаимодействие с войсками Выборгского армейского корпуса и авиацией Ленинградской воздушной армии, обустроили новую базу в Приморске. Контр-адмирал Чиров первым среди ленинградских моряков освоил переносный зенитный ракетный комплекс "Стрела" и лично продемонстрировал всем своим командирам его боевые возможности, сбив с первого выстрела воздушную ракету-мишень, запущенную на Ладожском полигоне ПВО.
В свое время, покидая Ленинград ввиду перевода на Северный флот, оценивая бывших сослуживцев, я полагал, что должность командира Кронштадтской дивизии для Валентина Кузьмича, по-видимому, не потолок. Рад, что не ошибся. Уже в марте прошлого года в дверях моего кабинета в Североморске появился широко улыбающийся контр-адмирал Чиров.
— По вашим стопам, товарищ командующий! — завершил Кузьмич свое официальное представление по случаю назначения его на должность начальника Новоземельского ядерного полигона.
 Аркадий Петрович Михайловский (1925 — 2011) — советский военачальник, командующий Северным флотом (1981—1985), Герой Советского Союза (18.02.1964). Адмирал (1980). Доктор военно-морских наук, профессор. Родился 22 июня 1925 года в Москве, с 1942 года служил в Военно-Морском Флоте СССР, участвовал в Великой Отечественной войне. В 1947 году окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Под командованием Михайловского в 1963 году атомная подводная лодка К-178 совершила переход подо льдами Арктики через Берингов пролив, за что 18 февраля 1964 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. До 1978 года офицер-подводник последовательно занимал должности начальника штаба, командира дивизии подводных лодок, начальника штаба и командующего флотилией атомных подводных лодок Северного флота. 21 февраля 1969 года Михайловскому было присвоено воинское звание контр-адмирала, а 25 апреля 1975 года — вице-адмирала. В апреле 1978 — декабре 1981 годов — командир Ленинградской военно-морской базы — комендант Кронштадтской военно-морской крепости. В декабре 1981 — марте 1985 годов — командующий Краснознамённым Северным флотом. Одновременно с военной службой Михайловский занимался научной работой, в 1969 году стал доктором военно-морских наук. В 1976 году он окончил Высшие академические курсы при Военно-морской академии. С января 1989 года по последних дней жизни Михайловский — профессор кафедры оперативного искусства Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова, где руководил созданной научной школой "Военно-морское искусство на рубеже XX–XXI веков". Опубликовал более 100 научных, публицистических и литературных работ, лично подготовил трёх докторов и 12 кандидатов военных наук. Автор нескольких книг мемуаров. Здесь приведен отрывок из его книги "Цена успеха. Записки командующего флотом." |
Потом мы долго стояли возле широкого окна, любуясь панорамой североморского рейда и знакомыми силуэтами боевых кораблей, стоящих на бочках или ошвартованных к причалам. Разговаривали о делах. Чиров рассказал, как вскоре после моего отъезда из Ленинграда при заслушивании вновь назначенного командира ЛенВМБ вице-адмирала В. А. Самойлова о положении дел в Кронштадте Главком С. Г. Горшков произнес:
— Товарищ Чиров, мы намерены послать Вас послужить с малого острова на очень большой, северный. Вам не привыкать, а делу так нужнее.
Разумеется, что контр-адмирал согласился не раздумывая. И вот результат. Чиров вытащил из нагрудного кармана тужурки и положил передо мной телеграмму, подписанную Главкомом: "Сдать дивизию начальнику штаба капитану 1-го ранга Гокинаеву В. А. и убыть на Северный флот для приема дел командира войсковой части №... Дополнительные указания получить у начальника управления ВМФ вице-адмирала Шитикова Е. А. и командующего Северным флотом адмирала Михайловского А. П.".
Не преминул Валентин Кузьмич поведать и о том, как провожали его кронштадтцы, с которыми вместе прошли шесть лет службы, как щемила сердце знакомая мелодия марша "Прощание славянки". Ее транслировали с кораблей, ошвартованных возле Усть-Рогатки. Дивизия отдавала честь своему командиру. Прощай флотский город Кронштадт, прощай Балтика. Но теперь снова здравствуй такой знакомый и близкий по духу Север!

Здесь Чирову пришлось служить целых 17 лет. Здесь он женился, вырастил двоих детей. Здесь стал отцом-командиром, возглавив экипажи сторожевых кораблей "Кречет" и "СКР-77". Откомандовал эскадренным миноносцем "Стремительный" и двумя большими притиволодочными кораблями "Адмирал Нахимов" и "Адмирал Макаров". Вот они стоят, эти корабли-красавцы, у 5-го причала, что так великолепно смотрится из окон кабинета командующего флотом. Долгие годы службы в Заполярье познакомили контр-адмирала Чирова с крутым нравом Баренцева, Карского и Белого морей, системой базирования кораблей и судов на их скалистых берегах, в том числе и на Новой Земле. Таким образом, на Север возвратился далеко не новичок.
Это видно по светящимся глазам Валентина Кузьмича, по тому нетерпению, с которым он рассуждал о предстоящей службе на одном из крупнейших в мире морских ядерных полигонов, о людях, с которыми может свести его судьба на Новой Земле, о тех моряках и летчиках, испытателях и конструкторах, инженерах и техниках, шахтерах и строителях, дозиметристах и врачах, объединенных в крупный военно-морской коллектив, предназначенный для решения важнейшей государственной задачи — испытаний все более совершенных образцов технически надежного, но грозного для недругов ядерного оружия — основы поддержания океанского стратегического паритета.
Необходимые специальные указания Чиров уже получил в Москве от вице-адмирала Шитикова, ведавшего вопросами эксплуатации ядерного оружия в Военно-Морском Флоте.
Мне оставалось только пожелать Валентину Кузьмичу успехов на новом месте службы, пообещать поддержку, помощь и отправить его в Архангельск с рекомендацией для начала представиться руководителям областной партийной организации, исполнительной власти, а также установить тесный контакт с командованием Беломорской ВМБ. Лишь после того можно убыть на Новую Землю. О вступлении в должность донести шифровкой Главкому, а в копии мне.
На прощание пообещал Кузьмичу прилететь к нему следующим летом в гости, чтобы вникнуть в проблемы ядерного полигона, а заодно и посмотреть на Новую Землю, вокруг которой много раз плавал, правда, на рабочей глубине, так что даже в перископ ее не видел, не говоря уже о том, чтобы ступить собственной ногой на прибрежные скалы. Однако потом служба закрутила. Замотался я, да так и не выполнил в прошлом году своего обещания. Непростительно!
Вот и звонит Чиров. Приглашает прибыть. Тем более что лютая арктическая зима закончилась даже на Новой Земле. А впереди крохотное лето, до предела наполненное работами по подготовке к очередным испытаниям грозного оружия, которые должны состояться не позже октября. Придется лететь!

О том и сказал Чирову. Затем позвонил Потапову попросил подготовить самолет, подобрать экипаж, рассчитать маршрут, организовать обеспечение. Вылет послезавтра. Возвращение через 3-4 дня пребывания на Новой Земле. Потом перебрал все, что храню в памяти об этом северном архипелаге и расположенном там ядерном полигоне. Оказалось, что знаю постыдно мало. Пришлось вызвать главного штурмана флота контр-адмирала Жеглова и начальника оперативного управления контр-адмирала Лебедько. Потребовал подготовить комплект карт, лоцию, Морской атлас, Атлас Арктики, а также географическую, историческую и оперативную справки.
— Я-то подумал, что Вы нас по проблемам операции Кольской флотилии напрягать собираетесь, — почесывая затылок, вымолвил начопер.
— Это потом, Владимир Георгиевич. Вот вернусь с Новой Земли и займусь Кольской флотилией. Кстати, оборона Новоземельского района базирования и прилегающих морских акваторий — одна из важнейших задач контр-адмирала Касатонова. А я в ней, должен признаться, — "ни в зуб ногой".
Лебедько хмыкнул и чиркнул что-то в своей рабочей тетради.
— На архипелаге не только ядерный полигон дислоцируется, но и его ближайший сосед — отдельная дивизия Архангельской армии ПВО. Поэтому должен все изучить лично, осмотреть с воздуха, с моря и с суши. Иначе задачи, поставленные на операцию командующему Кольской флотилией, могут оказаться не реальными.
Лебедько уныло переминался с ноги на ногу, выслушивая мои сентенции, но в конце концов изрек:
— Справку-доклад о Новой Земле мы подготовим, главным образом в части географической и исторической, однако ядерный полигон для нас — terra incognita. Сюда мы не допущены, —смущенно добавил начальник оперативного управления.
— Разрешите не терять времени? — выдохнул он и испарился.
Интересующих материалов за минувшие полутора суток подготовки к полету удалось собрать не так уж и много. Тем не менее самолет, ведомый экипажем хорошо мне знакомого подполковника Бориса Баранова, несет меня по маршруту над аэродромами Лахта, Нарьян-Мар, Амдерма. Каждый из них для нас является запасным, поскольку садиться будем в Рогачево, а это уже на Новой Земле. Устроившись поудобнее в салоне Ан-24, надсадно ревущего на заданной высоте, я с интересом рассматриваю атласы, листаю справки и постепенно твердо усваиваю, что Новая Земля — крупнейший архипелаг Европейской Арктики. Этот длинный и узкий горный хребет, продолжающий в океане геологические структуры Урала, разделяет Баренцево и Карское моря и перекрывает доступ теплому атлантическому течению Гольфстрим в Ледовитый океан.
Совершая круговорот, Гольфстрим как бы подогревает воды Баренцева моря, что делает заполярные порты и базы Кольского полуострова доступными для плавания круглый год. Даже черноморская Одесса может в особо холодные зимы замерзнуть, покрывшись льдом, а Мурманск и Североморск — никогда!

Архипелаг состоит из множества островов, среди которых два крупных: Северный и Южный, разделенные между собой продивом Маточкин Шар. Простирается Новая Земля от 70-го до 77-го градуса северной широты почти на 1000 км, тогда как поперечное сечение ее едва превышает 100. Тем не менее площадь, занимаемая островами, приближается к 83 тыс. км2, что превышает территорию таких европейских государств, как Бельгия и Дания, вместе взятые. С юга Новая Земля отделена широким проливом Карские Ворота от острова Вайгач, который в свою очередь отрезан от материка полосой Югорского Шара. В административном отношении Новоземельский архипелаг является частью Архангельской области.
Ландшафт Новой Земли в основном гористый, с отдельными вершинами высотой до 1500 м. На юге, правда, встречаются обширные холмистые плато и даже равнины. Примерно четверть площади архипелага покрыта материковым 500-метровым вечным льдом. Линия западного побережья изрезана множеством узких длинных фиордов, именуемых на поморском наречии губами. Восточный берег, выходящий к Карскому морю, расчленен меньше. Берега везде приглубые, скалистые. Зимою вокруг архипелага образуется ледяной припай, затрудняющий судоходство. Однако летом, когда лед уходит на западном побережье можно найти немало мест, удобных для укрытия мореходов от частой непогоды.
Я с интересом разглядываю на путевой карте приметные ориентиры, мимо которых неоднократно проносила меня подводницкая судьба. Вот, например, мыс Меньшикова, ограничивающий вход в Карские Ворота с севера. А рядом губа Саханиха. Чуть подальше Черная губа, где в середине 50-х годов рванули мы свой первый подводный ядерный заряд. Между этими мрачноватыми местами и полуостровом Гусиная Земля находится пролив Костин Шар, вмещающий губы Белушья и Рогачева. Далее на север — залив Моллера, приютивший на своих берегах бывшее становище Малые Кармакулы. Потом губа Митюшиха и мыс Серебряный, обозначающий вход в пролив Маточкин Шар. Губа Крестовая хранит память о многих отважных мореходах. А вот губа Южная Сульменева и губа Северная Сульменева, над которыми в свое время был подорван "Пол-Ивана", самый мощный в мире высотный боеприпас, эквивалентный 50 миллионам тонн тротила. Дальнейший путь на север ведет мимо полуострова Адмиралтейства, залива Вилькицкого, полуострова Литке, залива Русская Гавань. И так до самого мыса Желания, обогнув который мой атомоход уходил обычно в Карское море и оттуда желобом Святой Анны — в Северный Ледовитый океан.

Климат на Новой Земле арктический, суровый. Средняя температура января — 22° мороза, что в условиях полярной ночи и снежной пурги крайне затрудняет человеческую дея тельность. Здесь характерны местные ветры ураганной силы (так называемая новоземельская бора) со скоростью движения воздушной массы до 60 метров в секунду. Летом, конечно, проще, поскольку властвует полярный день, а средняя температура июля на юге архипелага составляет 6° тепла. Неудивительно, что подобный климат определяет условия существования растительности, животного мира и человека. Север и возвышенная, нагорная часть Новой Земли представляют собой полярную пустыню. Остальная территория — арктическую тундру со своеобразным слоистым грунтом, покрытым мхом. Правда, на юге архипелага можно кое-где встретить карликовую березу и даже кустарники ивы.
Эва куда меня черт несет! Хорошо, что не пригласил с собой жену. А ведь она просилась. Очень ей хотелось, видите ли, посмотреть настоящую Арктику с ее оригинальной флорой и фауной. Не насмотрелась за 30 лет службы в Заполярье? Впрочем, я пообещал Нине организовать экскурсию на Новую Землю, но в следующий раз, когда сам разберусь что к чему. Ведь на ядерный полигон лечу, а не в зоопарк, хотя мне и ведомо, что среди обитателей животного мира там царствуют белые медведи. Водятся также голубые песцы и пушистые грызуны — лемминги, служащие для песцов основной добычей. Северные олени и вездесущие собаки были завезены в свое время на Новую Землю человеком, да так и прижились здесь. На прибрежных скалах, как рассказывают очевидцы, гнездится несметное количество птиц. Среди них кайры, гагары, казарки. Встречаются и такие хищники, как сокол-сапсан или белая полярная сова. На лето прилетают с материка белолобые тундровые гуси. Но главным достоянием новоземельской фауны является озерно-морская лососевая рыба — настоящий арктический голец, отдельные особи которого могут достигать 90 сантиметров в длину. Голец — рыба царская, идет по быстрым и прозрачным заполярным речкам с моря в озера или обратно, смотря по сезону. Вот тут-то ее и подстерегают азартные рыболовы в виде людей или белых медведей.

Ну а морские воды, окружающие Новую Землю, населены моржами, китами и особенно такими дельфинообразными млекопитающими, как белухи. Крупнейшие особи этих животных достигают 6-метровой длины и массы в 2 тонны. Они способны оставаться под водой около 15 минут, передвигаясь со скоростью до 20 километров в час. Эти звери обладают развитым эхолокационным аппаратом и отлично ориентируются в окружающей среде. Белуха издает разнообразные звуковые сигналы как в воде, так и в воздухе. Среди них — свист, визг, щебетание, клекот, скрежет. Возможны глухие стоны или пронзительный крик, напоминающий звериный рев (отсюда и присловка: "ревет, как белуха"). Белухи способны к быстрому обучению и легко переносят транспортировку самолетом.
Неудивительно, что основной населенный пункт и морской порт на Новой Земле, куда мы держим свой путь, носит название Белушья Губа. Этот поселок, основанный в конце ХІХ века, описан Федором Литке и назван так потому, что много тут находится плавающих стадами морских зверей — белух и разного рода тюленей". А неподалеку от Белушьей Губы на плоском полуострове сравнительно недавно построен вполне современный сухопутный аэродром Рогачево, где совершит посадку и наш Ан-24. Аэродром получил свое название в честь командира шхуны "Новая Земля" кондуктора Григория Рогачева, описавшего и нанесшего на карту полуостров и губу в проливе Костин Шар и удостоенного по такому случаю звания прапорщик корпуса флотских штурманов.
Коренного населения Новая Земля не имеет. Впрочем, по-видимому, в XIV веке там побывали русские поморы-промысловики. Интересовались архипелагом и иностранцы. Так, в самом конце XVI века голландский мореплаватель и исследователь Арктики Виллем Баренц совершил три плавания к Новой Земле с целью открыть путь через северные моря в страны Востока. Оказавшись в непроходимых льдах он вынужден был зазимовать на Новой Земле, где, к сожалению, умер. Там и похоронен.
Долгое время Новоземельский архипелаг оставался неприступной крепостью. Но вот где-то во второй половине ХVІІ века олонецкий кормщик Савва Лошкин на собственном судне впервые в истории обогнул Новую Землю, пройдя Карским морем до мыса Желания и возвратившись на Белое море вдоль западных берегов архипелага. При этом Лошкин провел две зимовки на острове и сделал описание Новой Земли. С тех пор поморы-промысловики начали посещать архипелаг регулярно.
Лишь в 1853 году по обоюдному согласию с голландцами Русское море, иногда именуемое Московским, Студеным, Печерским или Мурманским, стали называть Баренцевым. Тем не менее основной вклад в изучение его берегов и вод сделали офицеры Российского флота. Так, капитан-лейтенант Федор Литке, командуя бригом "Новая Земля" в 1821—1824 годах, создал карту и опись западного побережья этого архипелага. Несколько позже подпоручик корпуса флотских штурманов Петр Пахтусов, совершив две экспедиции на Новую Землю, положил на карту восточное побережье, проливы Маточкин Шар и Карские Ворота. В те же годы прапорщик корпуса флотских штурманов Август Циволька плодотворно работал в экспедиции Пахтусова, а позже возглавил собственную экспедицию на Новую Землю, где зазимовал в губе Мелкой, но заболел там цингой и скончался.

Однако уже в 1887-1889 годах поручик Андрей Вилькицкий впервые произвел наблюдения над ускорением силы тяжести на Новой Земле. Впоследствии он возглавил экспедицию в Северном Ледовитом океане, а закончил службу в чине генерал-лейтенанта корпуса флотских штурманов — начальника Главного Гидрографического управления Российского флота. Вслед за Вилькицким, но уже в начале ХХ века русский геолог Владимир Русанов совершил четыре экспедиции на Новую Землю, в ходе которых впервые пересек ее по суше и, повторив плавание Лошкина, обошел морем вокруг архипелага. К сожалению, Русанов погиб вместе с экипажем судна "Геркулес" при подходе к Шпицбергену в 1913 году.
В этой когорте самоотверженных русских моряков был и старший лейтенант Георгий Седов. Плавая на судне "Святой Фока", он произвел опись самого сложного северо-западного участка побережья Новой Земли, вплоть до мыса Флиссингенский в Карском море. Затем, в начале 1914 года, предпринял попытку достигнуть Северный полюс, передвигаясь по льду на собачьих нартах. Однако в этом походе заболел цингой и умер вблизи острова Рудольфа.
Долговременными жителями Новоземельского архипелага постепенно становились ненцы, приходившие с материка. Первым среди них был Федор Вылка, обосновавшийся с семьей в становище Малые Кармакулы. Ненцы занимались здесь промыслом песца и морского зверя, сбором гагачьего пуха и яиц кайры, ловлей гольца, разводили оленей и передвигались на собачьих упряжках. С образованием на островах советской Власти первым и неизменным председателем Новоземельского островного совета долгое время был внук Федора — Тыко Вылка. Он и родился на Новой Земле, и сделал очень много для изучения, освоения и развития этого архипелага.
В годы Великой Отечественной войны, когда противнику удалось перерезать Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал, значение морских перевозок на севере страны существенно возросло. Защита коммуникаций в Баренцевом и Белом морях стала одной из главных задач молодого, еще не окрепшего Северного флота. Поэтому уже в августе 1941 года в составе флота была сформирована Беломорская военная флотилия с главной базой в Архангельске. В состав флотилии входили дивизионы эсминцев, сторожевых кораблей и минных заградителей, бригада траления, Беломорский сектор береговой обороны, Иоканьгская ВМБ и Северный отряд с базами в Амдерме и на острове Диксон. Формировал флотилию и стал ее первым командующим вице-адмирал Г. А. Степанов.

Оперативная обстановка в начале войны складывалась так, что силы Беломорской флотилии могли оказывать противнику эффективное сопротивление лишь на подходах к Белому морю, не пуская его в наши внутренние воды. В то же время для защиты судоходства в юго-восточной части Баренцева Моря (вдоль побережья Новой Земли) и в Арктике сил не хватало. На Новой Земле в то время мы не имели ни баз, ни аэродромов, ни береговой артиллерии, да и вообще каких-либо войск. Огромная протяженность побережья архипелага при малочисленном населении позволяла фашистским подводникам и летчикам чувствовать себя вольготно в этих районах. До командования доходили сведения, что немцы пытались даже оборудовать на Новой Земле временные пункты материально-технического обеспечения для своих подводных лодок и заправки гидросамолетов. Правда, подобные попытки имели главным образом разведывательный характер.
Однако летом 1942 года обстановка резко изменилась. В связи с оживлением в этот период советского судоходства в Арктике и предстоящим прибытием с Тихого океана для усиления Северного флота отряда кораблей в составе лидера "Баку", эсминцев "Разумный" и "Разъяренный" немецкое командование решило провести операцию в Карском море с задачей нанесения ударов по караванам судов, отряду кораблей и портам Диксон и Амдерма. В операции принял участие тяжелый крейсер "Адмирал Шеер" и пять подводных лодок. Две из них должны были обеспечить крейсер разведданными по оперативной и ледовой обстановке в Карском море, а три другие — прикрыть район операции со стороны Баренцева моря в районе Новой Земли.
Первой нанесла удар по новоземельцам немецкая подлодка "U-601". Уже 27 июля она всплыла у Малых Кармакул, уничтожила артогнем два гидросамолета, находящиеся в гавани, на берегу подожгла склад топлива и палатки летчиков. А через пять дней возле острова Междушарский "U-601" потопила транспорт "Крестьянин", шедший без охранения.
"Адмирал Шеер" вышел из Нарвика лишь 16 августа, но уже через двое суток, обогнув мыс Желания, встретился с подлодкой "U-255", уточнил обстановку и двинулся в Карское море. В тот же период в районе губы Белушья две подлодки противника вели артиллерийский бой с тральщиками "Т-885" и "Т-904". При этом "U-456" пыталась торпедировать сторожевой корабль "Ф. Литке", а "U-589" чуть позже заминировала западный вход в пролив Маточкин Шар. На этих минах через месяц подорвался и погиб сторожевой корабль "Муссон".
25 августа "U-255" обстреляла радиостанцию на мысе Желания. В тот же день "Шеер" обнаружил в Карском море ледокольный пароход "Александр Сибиряков". Немецкий крейсер поднял американский флаг и потребовал сообщить ему ледовую обстановку и место каравана советских судов. В ответ командир "Сибирякова" старший лейтенант А. А. Качарава открытым текстом донес на Диксон о встрече с германским рейдером, а после предупредительного выстрела последнего приказал открыть ответный огонь изо всех своих четырех пушчонок, которые не могли идти ни в какое сравнение с мощной артиллерией тяжелого крейсера.

Этот неравный бой, длившийся всего 20 минут, а также героические действия советских моряков, оказавших предпочтение собственной гибели, нежели позору фашистского плена, и затопивших судно при угрозе захвата, подробно описаны в военно-морской литературе. Именно поэтому корабли и суда, идущие ныне по Северному морскому пути, возле острова Белуха приспускают Государственный флаг и салютуют гудками героям-сибиряковцам.
Расправившись с ледокольным пароходом, германский рейдер попытался пройти в пролив Вилькицкого, где оповещенный "Сибиряковым", укрывался караван советских судов, однако встретил тяжелый лед и повернул обратно. Затем "Адмирал Шеер" решил обстрелять порт Диксон и высадить там десант. Но и здесь ему было оказано неожиданное и яростное сопротивление со стороны береговой крупнокалиберной артиллерийской батареи и четырех пушек сторожевого корабля "Дежнев", находившегося в порту. Получив несколько прямых попаданий 152-миллиметровых снарядов, тяжелый крейсер не рискнул далее продолжать рейдерство в советских водах и ушел в свою базу.
Германское командование осталось недовольно результатами предпринятого рейдерства и отменило запланированную на сентябрь подобную операцию. Вместо нее были предприняты минно-заградительные действия, в ходе которых подводные лодки, эскадренные миноносцы и тяжелый крейсер "Адмирал Хиппер" выставили минные заграждения у губы Белушья, в проливах Маточкин Шар, Югорский Шар, Карские Ворота, возле мыса Канин Нос, в то время как немецкая авиация сумела заминировать даже подходы к порту Архангельск. Таким образом, минная угроза возникла сразу в огромной зоне от Архангельска до Новой Земли.
Именно в этих условиях для повышения эффективности противолодочной обороны, прикрытия и сбора конвоев, защиты новоземельских проливов, Нарком ВМФ приказал сформировать в составе Беломорской военной флотилии Новоземельскую военно-морскую базу с основным пунктом дислокации в губе Белушья. Первым командиром Новоземельской ВМБ назначили капитана 1-го ранга А. И. Дианова. Силы базы наращивались постепенно за счет сторожевых кораблей Северного отряда, рыболовецких траулеров, переоборудованных в тральщики, ледокольных пароходов и мотоботов Главсевморпути (всего до 15 вымпелов). Береговые батареи были установлены на островах Новая Земля, Вайгач, Колгуев, Диксон. Оборудованы рейдовые стоянки для укрытия кораблей и судов. Организованы посты наблюдения и связи, подразделения гидрографии и тыла.

Для поиска немецких подводных лодок и плавающих мин Новоземельской ВМБ был оперативно подчинен авиационный отряд из шести гидросамолетов МБР-2. Для сухопутной обороны придан стрелковый батальон. Перевозку грузов и личного состава базы из Архангельска в Белушью удалось завершить лишь к концу сентября силами 14 транспортов. Чуть позже неподалеку от Белушьей Губы построили сухопутный аэродром для эскадрильи истребителей.
С учетом боевого опыта новоземельцев в 1944 году на острове Диксон была сформирована Карская военно-морская база, а на острове Вайгач соединение охраны водного района проливов Карские Ворота и Югорский Шар. Плавание судов в Карском море осуществлялось в конвоях, а для обеспечения проводки конвоев с особо ценными грузами Беломорская военная флотилия проводила специальные операции.
В ходе войны силы флота непрерывно наращивались, а размах боевых действий возрастал. Если в начале войны на Северном флоте было всего 8 эсминцев, то в конце их стало 17. До войны несли службу 15 сторожевиков, не оборудованных к тому же радиолокацией и гидроакустикой. Через 4 года таких кораблей стало более 50, и почти все они получили новенькие технические средства наблюдения. Перед войной на флоте совсем не имелось больших охотников за подводными лодками, к концу войны их насчитывалось 45. Начинали осуществлять поиск и уничтожение мин всего 2 тральщика, тогда как в последний период войны противоминную безопасность на театре обеспечивали более 40 противоминных кораблей с новейшими образцами тралов. Значительную роль в системе обороны портов, баз, якорных стоянок и прибрежных коммуникаций играла береговая артиллерия, число орудий которой в ходе войны увеличилось почти в четыре раза.
Создание и развитие Беломорской военной флотилии, Новоземельской и Карской военно-морских баз резко уменьшило активность немецких подводников и летчиков, что позволило нам осуществлять судоходство по Северному морскому пути, защищать внутренние и прикрывать внешние коммуникации. За годы войны только в заполярных водах был проведен 1471 конвой, включавший 2588 транспортов и 3617 военных кораблей. Перевезено 1172.1 тысячи человек, 3863 орудия, 380 танков, 88 самолетов, 13 560 автомобилей и других воинских грузов общей массой более 1.5 миллиона тонн.
Сколько, однако, любопытной фактуры и полезной цифири наскреб контр-адмирал Владимир Лебедько для своей справки по военной истории Новой Земли. Интересно, в какой степени владеет таким материалом контр-адмирал Валентин Чиров? Впрочем, это нетрудно установить при первой же беседе. Валентин Кузьмич — опытный военачальник, да к тому же еще и хорошо знает мой характер. Не забыл, надеюсь, как в недалеком прошлом мы выстраивали с ним опера тивный замысел учений "Залив-80" и "Залив-81", опираясь на факты истории морской и озерной обороны Ленинграда.

К тому же Чиров и Лебедько воспитывались чуть ли не в одной роте училища. Не станет нынешний начопер "подставлять" однокашника, понимая, зачем к нему на остров отправляется командующий флотом. Наверняка весь справочный материал, подготовленный оперативным управлением, уже лежит у Чирова в портфеле. Да и что тут особенного? Макаровский девиз "Помни войну!" или суворовский призыв "Учись побеждать!", изображенные огромными буквами на зданиях, а то и на окрестных скалах, можно увидеть ныне в любом из гарнизонов флота. Не сомневаюсь, что и в Белушьей Губе мне предстоит наблюдать нечто подобное.
Тем не менее именно послевоенная судьба Новоземельского архипелага сложилась крайне необычно. Морской ядерный полигон, созданный там, — не шутка, но более чем суровая необходимость. Его значение для поддержания на должном уровне океанского стратегического паритета — не вызывает сомнений. Зато ответственность командующего за развитие, функционирование, безопасность проведения испытаний, охрану и оборону этого объекта, расположенного к тому же в самом центре операционной зоны Северного флота, не сравнима ни с какой другой. А впереди еще около сорока минут полета. Поэтому, отложив в сторону карты, атласы и прочие материалы о Новой Земле, я принялся обдумывать все, что знаю о ядерном оружии.
Отношение к оружию
[ … ]
Но все-таки по причине вполне понятной меня особенно интересовал подводный ядерный взрыв с его поражающими факторами. Как ни странно, больше всего я получил о нем сведений в тот период, когда командовал Ленинградской ВМБ, поскольку неоднократно встречался с вице-адмиралом Ю. С. Яковлевым, начальником института ВМФ, занимающегося испытаниями в области создания и применения морского ядерного оружия.
Юрий Сергеевич старше меня по возрасту на 5 лет и поэтому закончил Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского перед самой войной. Сражался в составе частей морской пехоты на Карельском фронте. После войны занимался приемкой от промышленности кораблей и боевой техники. Сумел при этом закончить механико-математический факультет Ленинградского университета. Начиная с первых дней образования морского ядерного полигона капитан 2-го ранга Яковлев осуществлял научно-методическое обеспечение испытаний ядерного оружия на Новой Земле.

Конечно, к тому времени я хорошо представлял, чем ядерный взрыв, произведенный ниже поверхности воды, существенно отличается от воздушного либо наземного взрыва. Вода практически полностью поглощает световое излучение и проникающую радиацию. Вместо огненного шара в воде образуется огненный паро-газовый пузырь. Всплывая и взрываясь в воздухе, этот пузырь создает глубокую водяную воронку диаметром до полукилометра. Вокруг нее встает полый водяной столб с толщиной стенок в несколько десятков метров и высотой более двух километров. Падая, этот столб совершает "большой плюх", образующий так называемую базисную волну, которая представляет значительную опасность для кораблей и судов.
Вслед за тем от центра взрыва к периферии распространяется ударная волна большой силы высотой в несколько десятков метров, способная наносить тяжелые повреждения подводным лодкам, надводным кораблям и береговым гидротехническим сооружениям. Вода вблизи центра взрыва сильно загрязняется радиоактивными веществами, но степень загрязнения быстро падает вследствие перемешивания с чистыми слоями. При соприкосновении с загрязненной водой или при выпадении радиоактивного дождя может произойти радиационное заражение кораблей и прибрежной местности, что потребует немедленной дезактивации.
Именно от Яковлева я впервые услышал подробности эпизодов испытания ядерной торпеды при стрельбе с подлодки "С-144", которой командовал бывший московский "спец" и мой товарищ Георгий Лазарев. Он произвел тогда четыре последовательных разновременных выстрела. Два пристрелочных — торпедами в инертном снаряжении; один контрольный — с подрывом обжимного заряда уменьшенной мощности, но без урановой начинки; наконец — боевой выстрел ядерной торпедой по мишенной позиции, состоящей из нескольких реальных, но устаревших подводных лодок, эскадренных миноносцев и противоминных тральщиков, расставленных на якорях в различных направлениях и расстояниях от точки прицеливания. Разумеется, что со всех этих кораблей-мишеней был заблаговременно снят личный состав.
В результате подлодка "С-84", находившаяся в надводном (крейсерском) положении на расстоянии 250 метров от эпицентра взрыва, затонула практически мгновенно. "С-20", пребывавшая в полуподводном (позиционном) положении на расстоянии 310 метров, затонула, встав "на попа", через 4 часа после взрыва. "С-19" в позиционном положении на расстоянии 520 метров осталась на плаву, но получила сильные повреждения вооружения и технических средств, сделавшие подлодку небоеспособной. Наконец, подлодка "Б-22", находившаяся в подводном положении на глубине 30 метров и на расстоянии 700 метров от эпицентра взрыва, ко всеобщей радости каких-либо повреждений не получила и полностью сохранила боеспособность.
Эсминец "Грозный" (240 метров от эпицентра) затонул до того, как рассеялась базисная волна. "Разъяренный" (450 метров) получил повреждения корпуса и затонул через 4 часа после взрыва. "Гремящий" (620 метров) остался на плаву, но принял значительное количество воды и через 6 часов был отбуксирован на мелкое место и посажен на грунт.

Тральщик "Т-218" (280 метров) затонул сразу после взрыва. Тральщик "Павлин Виноградов" (620 метров) видимых повреждений корпуса не получил, но боеспособность потерял из-за выхода из строя вооружения. "Т-219" (950 метров) повреждений не имел, хотя и попал в зону действия базисной волны. Специалисты утверждают, что если бы этот кораблик имел скорость 15 узлов, то смог бы уклониться и избежать радиационного заражения.
Подводная лодка "С-144", производящая стрельбу ядерной торпедой с дистанции свыше 2 километров от точки прицеливания, находилась на перископной глубине. Каких-либо повреждений или заражений она не получила. В этих испытаниях принимало участие великое множество специалистов: военных и гражданских, ученых и конструкторов, летчиков и моряков. Благодаря высокой организации и продуманным мерам безопасности никто не погиб. Лишь немногие, да и то по собственной неосторожности, схватили незначительные дозы радиации.
Натурные испытания такого масштаба на Новой Земле больше не проводились, но полученные экспериментальные данные легли в основу технических и тактических расчетов, повышающих взрывостойкость, противоатомную защиту, боевую устойчивость, целесообразные способы действий и приемы применения оружия кораблями Военно-Морского флота. Ну, а Юрий Яковлев создал научную школу в области динамики подводного ядерного взрыва. Он поставил курс лекций по теории взрыва в Военно-морской академии, воспитал коллекнив самоотверженных военных ученых, составивших основу возглавляемого им института. О достижениях своих коллег Юрий Сергеевич умел и любил рассказывать. Я всегда восхищался короткими, но содержательными и ясными докладами Яковлева нашему Главкому, когда тот посещал ленинградские институты. Особенно интересно было узнать, что одним из сотрудников и воспитанников Юрия Сергеевича является Баррикад Замышляев, мой однокашник по военно-морской спецшколе. В третьей роте вместе "грызли гранит науки". Хорошо помню того пацана с пушистой головой и оттопыренными ушами. Окончив "спецуху", Баррикад угодил в "Дзержинку", а потом работал научным сотрудником в институте военного кораблестроения в Ленинграде. Однако с середины 50-х годов капитан-лейтенант Замышляев возглавил группу исследователей ударной волны при проведении первого подводного ядерного взрыва на Новой Земле. Это и определило всю его дальнейшую судьбу.
Основными направлениями научной деятельности доктора технических наук Б. В. Замышляева стали основы теории механики взрыва, исследование полей и динамических нагрузок, создание научно-методических основ организации и проведения крупномасштабных испытаний, разработка оптимальных характеристик современного вооружения — не только морского, но и для других видов Вооруженных Сил. Поэтому, сменив флотскую одежду на армейскую, генерал-лейтенант Баррикад Вячеславович Замышляев возглавляет ныне Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны СССР. Гордиться можно таким однокашником.
К великому сожалению, его коллега и учитель, лучший в ВМФ специалист по ядерному взрыву, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Лауреат Государственной премии СССР, вице-адмирал Юрий Сергеевич Яковлев ушел из жизни. В тот же год скончался и первый советский подводный ядерный стрелок, каковым в нашей памяти навечно останется вице-адмирал Георгий Васильевич Лазарев. Случилась эта беда вскоре после моего вступления в должность командующего Северным флотом. Ушли прекрасные самоотверженные люди, но оставили после себя деятельный коллектив единомышленников — моряков и ученых, способных развивать и поддерживать на должном уровне боевую мощь нашего Флота — одну из составляющих "ядерного щита" государства.
Теперь-то я отлично понимаю, что создание ядерного оружия оказало решающее влияние на все стороны военного дела. Великолепно знаю, какое оружие и сколько его находится на моих кораблях, постоянно и заблаговременно развернутых в оперативно-важных районах океана. Уверен, что в руках профессионалов грозная сила сработает именно там и только тогда, когда этого потребуют интересы Родины. К сожалению, таким оружием оснащены не только Вооруженные Силы Советского Союза. Им владеют США, Великобритания, Франция, Китай. Ведутся поисковые работы и в других странах. Применение ядерного оружия в широкомасштабной войне чревато катастрофическими последствиями для всего человечества. Понимая это, Советский Союз развернул борьбу за полное запрещение подобного оружия и уничтожение всех его запасов в любых странах мира. Тем не менее близкого конца борьбы пока не видно. Хорошо, что договорились хотя бы о запрещении натурных ядерных испытаний в трех средах. Однако глубоко под землей, в скальных выработках, такие испытания, по-видимому, необходимы как для выявления работоспособности вновь создаваемых ядерных зарядов, так и для проверки боеготовности, надежности и безопасности накопленных боеприпасов. Именно поэтому в иллюминаторах моего самолета раскрываются ландшафты Новой Земли, а подполковник Баранов докладывает, что выходит на глиссаду для посадки на аэродром Рогачево.