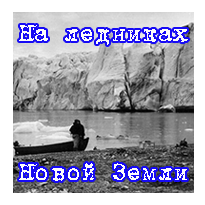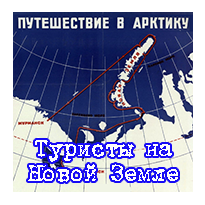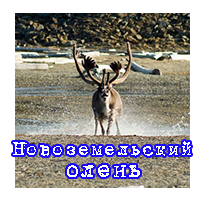Новые материалы
Офицер службу не выбирает
 В 1957-м году я заканчивал полный курс кораблестроительного
факультете Высшего Военно-морского инженерного Ордена Ленина училище имени Ф.Э.
Дзержинского в г. Ленинграде, в которое я поступил в 1951-м году без экзаменов,
так как окончил 10 классов общеобразовательной средней школы в Москве с
серебряной медалью. Во втором полугодии 1931-го года к сентябрю прием в училище
на кораблестроительный факультет неожиданно объявили вновь и резко увеличили по
численности и наш, принятый в начале контингент, с 25-ти человек до 120-ти, и к
началу учебного года все курсы факультета были переведены из здания Главного
Адмиралтейства в Михайловский (Инженерный) замок, где до этого времени
размещалось Военно-строительное или саперное училище.
Учиться было интересно,
предметов была уйма, в систему военной дисциплины курсанты вписывались
по-разному, порой очень тяжело, с трагическими последствиями для тех, кто
сделал ошибочный выбор. Но к 3-4-му курсу нас "обкатали". За период
учебы в училище оставили яркую память о себе великолепные офицеры и
преподаватели, облик которых словно списан со страниц рассказов Станюковича и
воспроизведен по роману "Капитальный ремонт" Л. Соболева.
В 1957-м году я заканчивал полный курс кораблестроительного
факультете Высшего Военно-морского инженерного Ордена Ленина училище имени Ф.Э.
Дзержинского в г. Ленинграде, в которое я поступил в 1951-м году без экзаменов,
так как окончил 10 классов общеобразовательной средней школы в Москве с
серебряной медалью. Во втором полугодии 1931-го года к сентябрю прием в училище
на кораблестроительный факультет неожиданно объявили вновь и резко увеличили по
численности и наш, принятый в начале контингент, с 25-ти человек до 120-ти, и к
началу учебного года все курсы факультета были переведены из здания Главного
Адмиралтейства в Михайловский (Инженерный) замок, где до этого времени
размещалось Военно-строительное или саперное училище.
Учиться было интересно,
предметов была уйма, в систему военной дисциплины курсанты вписывались
по-разному, порой очень тяжело, с трагическими последствиями для тех, кто
сделал ошибочный выбор. Но к 3-4-му курсу нас "обкатали". За период
учебы в училище оставили яркую память о себе великолепные офицеры и
преподаватели, облик которых словно списан со страниц рассказов Станюковича и
воспроизведен по роману "Капитальный ремонт" Л. Соболева.
В начале 1957-го года мы приступили к дипломному проектированию, при этом выбор объектов проектирования был весьма богат и включал, пожалуй, "все, что плавать или может плавать" на военно-морском флоте. Преддипломную практику во порой половине 1936-го года я проходил в Центральном конструкторском бюро - ЦКБ-16 в Ленинграде, где меня опекал военпред инженер-капитан З-го ранга Колызаев Б.А. (в последующем инженер-контр-адмирал, крупный специалист по боевым кораблям на воздушной подушке), специализировавшийся в те годы на проектировании авианосцев. По воле случая он был назначен руководителем моего дипломного проекта и в процессе общения убедил меня в мысли о необходимости применить все наличные знания и не сдерживать фантазию при разработке дипломного проекта, то есть проявил творческий, а не школярский подход к решению инженерно-технической задачи. Следуя этому совету, я в качестве дипломного проекта избрал "авиаракетоносец с косой (покатой) палубой и атомной двигательной установкой и водоизмещением около 80-ти тысяч тонн. В СССР в постройке таких еще не было.
В феврале - апреле 1957-ю года меня вызвали к начальнику факультета и сообщили, что есть возможность прослушать факультативный курс теории взрыва для чего необходимо найти желающих среди завершающих обучение дипломников: следует сказать, что в последние годы учебы я был председателем научного общества курсантов нашего факультета. Я переговорил с товарищами. Набралось шесть человек, в числе которых был и мой товарищ по выпуску Бочаров И.Ф. И вот первая встреча с инженер-капитаном 1-го ранга Юрием Сергеевичем Яковлевым. Юрий Сергеевич пришел на встречу с нами в строгом морском кителе, на котором были прикреплены завораживающие нас два значка - об окончании военно-морского училища ("Дзержинка", 1941-й год) и об окончании Ленинградского государственного университета. Невысокого роста, хорошо отточенные упрямые черты лика, волевая походка, пристальный взгляд на собеседника. Признаться, к восприятию тех проблем, которые он нам излагал, мы не были готовы. Теория была сложной, понятия совершенно новые. Математический аппарат и привлекаемые им физические закономерности нам ранее были мало известны. Юрий Сергеевич прочитал нам лекций десять. Проходили они в конце дна после ужина в одной из аудиторий, окна которой выходили в колодец двора Михайловского замка.
Читалась только теория вопроса, в качестве технических средств Юрий Сергеевич применял только классную доску и мел. Читал он гидродинамику взрыва безотносительно к источнику его происхождения. В дни лекций по поручению Юрия Сергеевича я предупреждал его по служебному телефону о нашей готовности к занятиям. В то время Юрий Сергеевич занимал должность заместителя командира в/ч 70170 (Центральный научно-исследовательский институт ВМФ) по научно-исследовательским работам. Командиром в/ч 70170 был адмирал Виноградов. Кое-что из содержательной части этих занятий я перенос в содержание диплома. В частности, я произвел расчет параметров ударной волны гипотетического подводного ядерного взрыва и оценил результаты воздействия на корпус авианосца. Понятно, что все эти изыскания были весьма примитивными. В те годы настольной книгой специалиста по взрыву была редкая по ясности изложения переводная с английского языка книга Р. Коула "Физика взрыва".
В мае 1957-го года дипломные проекты были успешно защищены, Я защитил свой проект на "отлично" и по совокупности оценок по экзаменам за весь период обучения заслужил диплом с отличием. В процессе защиты дипломов на кораблестроительном факультете Юрий Сергеевич был то ли членом государственной экзаменационной комиссии, или же ее председателем. Помню, что он руководил приемом дипломный работ в одном из классов. В день выпуска из училища (солнечный, жаркий) нас строем в последний раз из Михайловского заика привели во двор Главного Адмиралтейства, где перед строем вручили каждому диплом корабельного инженера по специальности "военное кораблестроение и кортик, после чего мы заменили курсантскую форму и звании мичмана на парадную офицерскую в звании инженер-лейтенанта, прошли строем перед командованием училища и вновь построились, но уже в актовом зале училища, где нам объявили приказ Главнокомандующего ВМФ о назначении на должности и пункты мест службы.
До этого последнего момента никто из нас не знал что-либо конкретное о своей будущей деятельности. Такое положение дел я считал совершенно естественным, так как в семье отец приучил меня к мысли о том, что офицер не волен выбирать место службы. Мой отец был кадровым офицером и прослужил, с перерывами, в русской и советской армиях с 1914 года по 1941 год, награжден боевыми наградами, участник Великой Отечественной войны. Основная масса наших выпускников настраивалась на береговую работу и службу в специальности корабельного инженера в военной приемке на судостроительных и судоремонтных заводах, конструкторских бюро. Но получилось так, что многим пришлось служить на кораблях и подводных лодках, и достаточно долго. В ближайшие после 1957-го года годы часть выпускников уволилась в запас, часть ушло в Ракетные войске, другие ведомства и службы.
II
Я получил назначение на должность младшего научного сотрудника в/ч 99795 в городе Приозерске (бывший Кексгольм), что на Ладожском озере. После полагающегося мне отпуска приехал в Ленинград, прибыл в в/ч 70170 (в/ч 99795 являлась научно-исследовательским полигоном для в/ч 70170). Юрий Сергеевич принял меня в рабочем кабинете, рассказал о предстоящей мне работе и я уехал в Приозерск.
Вспоминаю, что Юрия Сергеевича мы, молодежь, просто обожали. Очень хотелось быть похожим на него по уровню учености, культуре, широте кругозора. Юрий Сергеевич прекрасно играл на фортепиано. Припоминаю такой случай. Осенью 1961-го года мы находились в гарнизоне Белушья на Новой Земле. По какому-то поводу собрались в Доме офицеров. Перед нами выступал Юрий Сергеевич, уже в звании контр-адмирала, командира в/ч 70170.В одни из моментов он непринужденно присел за пианино и свободно заиграл популярную классическую вещь. Состояние наше было - сочетание изумления и восторга! Захотелось быть вот таким же морским офицером и ученым!
С разрешения Юрия Сергеевича, который в свою очередь ходатайствовал за меня перед командиром Ленинградской военно-морской базы, в 1959-м году я поступил на заочное отделение механико-математического факультете Ленинградского государственного университета, предварительно сдав вступительные экзамены в общем потоке с гражданскими абитуриентами. К сожалению, закончить обучение в Университете по условиям службы не удалось. С Юрием Сергеевичем всегда связывалась атмосфера научного поиска, смелости в постановке эксперимента, уверенности в безграничной возможности человека. Он неоднократно говорил на встречах с нами о том, что хочет видеть в нас квалифицированных физиков-экспериментаторов, а для того необходимо упорно творчески работать учиться, ставить перед собою высокие цели и достигать их.
В в/ч 99795 коллектив офицеров и научных сотрудников был подобран исключительно дружный, грамотный,целеустремленный. Многие попали на эту облапь деятельности после окончания гражданских высших учебных заведений, университетов. Вспоминаются выдающиеся ученые и специалисты - Гоголев В., Моисеев С., Плотников В., Фигичев А.И., Жижин В.П., Бобровский С., Проскура, Павлов В., Мочалов В., Филиппов В. Командиром в/ч 99795 был капитан 1-го ранга Глушков, которого в 1960-м году сменил капитан 1-го ранца Цаллагов, переведенный на эту должность с Новой Земли.
Техническое оснащение в/ч 99795 для проведения модельных исследований взрывов в различных средах было вполне современным. В частности, имелся бассейн с водой, в котором производились взрывы шаровых зарядов тротила весом от нескольких граммов до пятидесяти граммов. Устанавливал заряды и производил их подрывы офицер Баландин. Проводились опыты по изучению распространения упругих волн взрыва в скальном грунте. в воздухе, изучалось воздействие взрыве на корабельные конструкции. Уникальные пьезоэлектрические приемники давления изготавливались с большим мастерством по собственной технологии начальником лаборатории В. Плотниковым и подчиненными ему специалистами.
Связь между в/ч 99795 н в/ч 70170 была очень тесной, творческой. припоминаю состояние интенсивной подготовки к ядерным испытаниям "где-то на Севере". В коридорах и лабораториях бывших Гренадерских казарм, в которых размещалась в/ч 70170, кипела работа. Градуировали и укомплектовывали аппаратуру, упаковывали н сбивали ящики, составляли описи содержимого, знакомились с методиками использования аппаратуры. В этот период запомнился один из организаторов работ инженер-полковник Пучков А.А. Исключительно яркой личностью запомнился Замышляев Б.В., особенно как ученый с редкой интуицией, умевший одним-двумя вопросами оппоненту установить меру надежности обсуждаемых результатов по всему спектру физики взрыва. Особенно это проявлялось при оценке испытаний на Новой Земле. Эти две личности Юрий Сергеевич и Баррикад Вячеславович - произвели на меня неизгладимое впечатление и сформировали в значительной степени стереотип моего поведения на все годы службы. Без преувеличения можно сказать, и исторические исследования подтвердят то, что Юрий Сергеевич Яковлев относится к числу тех ярких индивидуальностей -ученых и организаторов науки, - которыми была славна когорта Курчатова И.В., Корoлева С.П.. Харитонова Ю.Б. и других известных корифеев науки.
III
В июле-августе 1957-ю гола я вместе с Бочаровым И.Ф. в составе группы инженер-капитана 1-го ранга Симонова Ю.К. вылетели на военном самолете Ил-14 с аэродрома вблизи города Пушкина Ленинградской области. Самолет взял курс через арктический поселок Амдерма на Новую Землю в в/ч 77510, в поселок Белушья. Задача группы Симонова Ю.К. заключалась в регистрации с помощью микробарографов воздушных ударных волн при взрывах фугасных тротиловых бомб, сбрасываемых с самолета-бомбардировщика Ил-28 при его следовании в широтном направлении. По этим записям, уже не нами, прогнозировались направление и скорость течения сезонных воздушных потоков на больших высотах, по направлению которых опасались канального распространения ударных волн ядерного взрыва с выходом этих волн на Западную Европу.
В поселке Белушья всех участников группы вместе с багажом экспедиции погрузили на небольшое мелкосидящее суденышко, именуемое ПОК (посыльно-оперативный катер), после чего оно вышло в Баренцево море. Держась в виду берега, проследовали в сторону пролива Маточкин Шар. Погода по пути следования была пасмурной, низкая сплошная облачность, дождь, сильное волнение, на котором наш кораблик плясал замысловатый танец. Приготовить горячую пищу оказалось невозможным ввиду сильной качки, которая к тому же уложила не только часть экипажа, но и командира судна - молодого старшего лейтенанта, - беспомощно лежавшего на верхней палубе, заботливо укрытого овчинным тулупом. Уверенность в том, что наше путешествие закончится благополучно придавала неуклюжая самоходная баржа, транспорт "Чукотка", следовавшая в том же направлении, она не испытывала видимого галопирования, которому подвергался легкий ПОК.
К началу нашей работы все население из поселков и других мест проживания людей в районе Маточкин Шар было эвакуировано. Пункты регистрации следовало разместить на побережье этого пролива разделяющего Новую Землю на два острова, южный и северный. С наступлением сумерек минули мыс Входной и уже в условиях более спокойного моря подошли к деревянному пирсу поселка Лагерное, что располагался на северном берегу пролива Маточкин Шар. Поселок был безлюден, видно брошен впопыхах, о чем свидетельствовали полуоткрытые окна н двери в домах, разбросанная домашняя утварь. Попадались довольно мирно настроенные ездовые собаки, видимо, оставленные их хозяевами по причине ненужности. В собаках чувствовалась какая-то обескураженность, растерянность от нелепости обстановки, в которой они очутились. Вместе с Бочаровым И.Ф. прошли вдоль поселка по единственной улике, подивились увиденному и вернулись на судно.
На утро ПОК проследовал дальше по проливу в сторону Карского моря. Углубляясь в пролив, дивились редким по красоте и ранее нами не виданным картинами его берегов: каменные осыпи, ледники, долины и ... никаких следов человека, безлюдье. К вечеру вышли к мысу Выходному - крайней точке суши, дальше простиралось суровое, темное Карское море со сплошной белой кромкой дрейфующих полей у горизонта. На море полный штиль, от этого вода выглядит не только холодной, но и тяжелой, не жидкой. На шлюпке высаживаемся на берег и идем изучать территорию полярной станции "Мыс Выходной". Та же картина поспешно брошенного жилища куда, наверное. по всему видимо, бросившие его хотели бы вернуться. В домике метеостанции все двери раскрыты настежь привлекал внимание общий зал - место коллективного отдыха или же столовая для обитателей полярной станции. Уютная радиорубка - она же и жилище радиста. В общей комнате - полки с книгами, передвижная киноустановка. Среди книг замечаю второй том воспоминаний Бисмарка. Как он сюда попал и кому был интересен? У домика на просушке висят несколько шкур тюленей или же нерп.
После рекогносцировки возвращаемся на судно. И здесь нас ожидает сюрприз: наше утлое суденышко село на мель. Что делать? Отчаянная работа машины на передний и задний ходы не помогает. Помощи ждать неоткуда. Постепенно отпускаются призрачные сумерки, а со стороны Карского моря начинает потягивать холодом, и явно надвигаются ледяные поля. Положение "аховое", но ощущение романтической неожиданности, возникающего приключения, внезапности столь необычного состояния, существенно преобладает над тревогой. И тут управление берет на себя Ю.К. Симонов. Он решается применить весьма экстравагантный способ вызволения нас из морского плена. Построил в шеренгу вдоль борта судна всех свободных от вахты и членов экспедиции, а затем по его команде заставил всех перебегать с борта на борт, надеясь раскачать судно. Но судно с мели сходить не собиралось. Результата не было, но народ оживился. Побегав, таким образок, кинут десять, решили угомониться и ждать что будет. Почти сразу же на помощь нам заспешили могучие силы Природы - мощный прилив понял пас с мели и освобожденное суденышко закачалось на поверхности моря. К счастью ни пробоин, ни течи не оказалось. Запустили двигатель и, развернувшись на обратный курс, стали втягиваться впавший уже уютным пролив Маточкин Шар.
По всей видимости, Ю.К. Симонов посчитал непригодной по навигационным н бытовым условиям полярную станцию мыса Выходного для базирования микробарографов. Утро следующего дня мы встретили в бухте, что вдался в южный берег северного острова Новая Земля. И здесь не обошлось без приключения. Выбравшись из каюты на палубу, я увидел яркое солнце на голубом небе и ощутил сильнейший ветер, который превратил поверхность этого небольшого залива в хаотичное нагромождение белых барашков. Судя по переполоху, царившему на палубе, нас сносило к одному из берегов залива, возможно на мель. Кому-то пришла в голову спасительная мысль завести на берег швартовый конец и закрепить его там в качестве мертвого якоря. В конечном счете, мы покинули н это негостеприимное место и отправились дальше на запад.
По пути на правом берегу пролива высадили И.Ф. Бочарова, приметив домик промысловика. Наконец, очередь дошла и до меня. Судно подошло к берегу недалеко от устья речки Шумилиха и уткнулось в этот берег. То, что осталось от некогда процветавшего поселка представляло удручающее зрелище (в 1960-му году это место стало называться "геофизической станцией", затем зоной Д-9, а потом и поселком Северным). Несколько кирпичных печей с остатками дымовых труб и контуры фундаментов дoмов. Место необитаемое, покинутое, нет и собак. Высаживаемся, выгружаем по описи принадлежащие нам ящики, снаряжение, канистру со спиртом. Нас трое - я, матрос Коваленко И. с радиостанцией, и солдат, фамилию которого не помню. Матрос и солдат прикомандированы в поселке Белушья. Высалив нас, судна тотчас же отправилось дальше для высадки группы техника-лейтенанта Секача.
Недалеко от песта высадки нам приглянулся частично сохранившийся домик. В нем оказались две или три комнаты и кухня с дровяной плитой. Одну комнату занял я, в ней была установлена и аппаратура. Если в день высадки погода стояла великолепная, солнечная, штилевая, то в дальнейшем случались и сильные ветра, от которых наша хижина могла и завалиться. В такие дни, особенно ночью, было тревожно, чудилось, что нагрянет белый медведи какие-либо другие гости. По слухам, не исключали и встречи с группой захвата с иностранной подводной лодки. Ночные страхи подогревали жалобные вопли бегающих поблизости песцов. Их вой очень напоминал плач ребенка. Ночью, в кромешной тьме такие звуки действовали на воображение.
Мы были вооружены. Я имел пистолет ТТ с большим количеством патронов. Солдат был вооружен карабином АKC с патронами. В наличии были и боцманские ножи. Вооружение мы получили в Белушьей. Каких-либо инструкций относительно применения оружия дано не было - видимо "дарители" полагались на наш здравый смысл.
Спали мы на полу, забравшись в одежде в меховые на цигейке спальные мешки. Пистолет я всегда укладывал в спальном мешке рядом собою, предварительно сняв его с предохранителя, наивно полагая стрелять сквозь стенку мешка в белого медведя, ежели тот задумает нами полакомился. Солдату. помимо обязанности охранять нас, поручалось приготовление горячей пиши.
Первые дни пребывания на точке вызвали у меня беспокойство, так как собранный мною комплекс аппаратуры не реагировал на изменения внешнего атмосферного давления н на калибровочные сигналы. А это означало, что и необходимый сигнал от взрыва авиабомбы не будет зарегистрирован. Следовательно, вся трудоемкая затея с опытами по прогнозированию физического явления может позорно провалиться. А время взрыва приближалось.
Причина, как оказалось, крылась в сущем пустяке - не было достаточно накала электрической лампочки, свет от которой должен был виден на экране осциллографа после того как отразится от зеркальца, закрепленного на шлейфе гальванометра. Дефект был устранен в последний час перед сигналом о первом бомбометании. Так в начале своей научной карьеры я получил запомнившийся навсегда урок - при экспериментальных работах, при регистрации физических явлений следует досконально знать свойства и особенности измерительно-регистрирующей аппаратуры.
К осени мы свою задачу выполнили. Ю.К. Симонов обошел на ПОК точки нашего базирования, снял нас и мы переправились в Белушью, где написали отчет о проведённых опытах.
На момент нашего возвращения в Белушью в ней наблюдалось еще большее столпотворение, чем в первые дин нашего прилета из Ленинграда Здесь мы встретили Юрия Сергеевича, весьма энергичного, волевого. Видимо он вернулся из бухты Черной, где участвовал в организации и проведении подводных атомных взрывов. Увидев меня, он пошутил в мой адрес по поводу отпущенной мною рыжей бородки: "0, какой Вы интересный!"
Наверное, в октябре, после окончания ядерных испытаний, мы вернулись к постоянному месту службы в в/ч 99795. Переход с Новой Земли на материк в Мурманск совершался со многими прикомандированными на теплоходе "Сестрорецк".
IV
Я продолжал служить х работать в отделе инженер-капитана 2-го ранга Трубицина-Макарова А.В. На моделях изучал воздушные, наводные н подводные взрывы. Изучал распространение сейсмических ударных воли в скальном грунте, благо на берегу Ладожского озера существуют выходы гранитных монолитов. Изучал взаимодействие ударной волны подводного взрыва с корабельными конструкциями, в частности при испытании подводной лодки проекта 613. Летом 1958 года лодка в плавучем доке транспортировалась из Беломорска по Беломорско-Балтийскому каналу и далее через систему озер и рек до города Приозерска.
В это же время я опубликовал в научном сборнике в/ч 70170 статьи по изучению обтекания ударной волной подводного взрыва цилиндров. Для регистрации процесса была использована съемка скоростной фотокамерой, позволявшей осуществлять частоту съемки до 70-ти тысяч кадров в секунду.
V
Летом 1958-го года в в/ч 70170 мы вновь готовились к испытаниям атомного оружия. Я был включен в группу, которая на достаточно большом расстоянии от эпицентра взрыва регистрировала слабые ударные волны, прямые и обошедшие земной шар, с целью установить закономерность распространения воли, в том числе и для использования выявленных закономерностей в системе глобального контроля за проведением ядерных взрывов. В состав примененной аппаратуры входили уже известные по предыдущему наблюдению микробарографы и электронные самописцы ЭПП-09. Я был назначен старшим партии из двух человек, входил также старший лейтенант Веселов В. из в/ч 99795. Из Ленинграда вылетели самолетом до Архангельска, приземлились на аэродроме Кег-острова В тот же день я связался с военно-морской базой в Северодвинске. Оттуда был выслан военный катер, который доставил нас по Северной Двине в город Северодвинск. Нас разместили в свободной каюте военного тральщике проекта 266, ящики с приборами и оборудованием закрепили на верхней палубе. По уверению командира, тральщик направлялся на Новую Землю и по пути высадит нас на полуострове Канин Нос.
Поздно вечером тральщик вышел в норе. На следующее утро нашему взору открылось побережье полуострова. Погода была отличная, солнечная, подул сильный ветер и Белое море было неспокойно. Чем ближе мы подходили к оконечности полуострова Канин Нос, тем явственней обозначалась сплошная белоснежная полоса прибоя, контрастирующая с совершенно черными отвесными берегами. Выше прибойной полосы и черных скал зеленела тундра виднелись несколько разбросанных по ней построек, маяк, мачты антенн. От береговой черты местность несколько поднималась на самом высоком месте располагалось деревянное здание полярной метеостанции, в котором нам предстояло жить и работать.
Советуюсь с командиром тральщика — как быть дальше? Может быть дождаться пока утихнет волнение моря? Уж слишком жуткая картина за бортом. Спускать план-средство с тральщиком в кипящий котел, загружал в него людей и груз и следовать в никуда? Эти мысли роятся в моей голове. На этом фоне обуревавших меня чувств грозно возвышается приказ, сознание необходимости исполнить долг, государственная важность порученного мне задания. Колебания закончились, когда командир тральщика (мой одногодок) заявил, что у него тоже приказ и ожидать штиля он не может. Если я отказываюсь десантироваться, то он продолжит идти курсом на Новую Землю. Решение принято! В полумиле от берега спускаем моторный баркас с корабельным мичманом за старшего в нем. В пляшущий на волнах у борта тральщика "ковчег" с большими предосторожностями спускаем ящики и самих себя. Отходим от тральщика.
В этих местам волнение поверхности моря характеризуется беспорядочной толчеей волн, хотя при подходе их к побережью беспорядок организуется в гигантские волны, сокрушающие при столкновении со скалами все живое, истончая о скалы. рифы, камин и песок монументальные стволы сибирского или архангельского плавника. Беззащитный баркас с подвесным мотором пляшет на волнах, проваливается между гребнями воли и вновь вздымался на их вершины. Единственная активная личность на баркасе - старший баркаса на кормовой банке, управляющий мотором и рулем. Остальные покорно ждут исхода поединка жалкой скорлупки с несокрушимой мощью стихии. Для нас, пассажиров, все, что происходит по носу баркаса - сплошной хаос, а в душе полная покорность судьбе: вода холодная, ледяная, спасательных средств никаких, да и помощи ждать неоткуда. Наконец, наш кормчий скорее интуитивно, чем по навигационным знакам, находит проход между ясно видимыми скалами и периодически обнажающимися среди волн рифами и на гребне очередного гигантского вала баркас выбрасывает в микроскопическую бухточку, а в затем и на полосу галечного пляжа. Наступает облегчение - мы благополучно высадились на необорудованное и совершенно незнакомое нам побережье.
Здесь нас уже ожидают свободные от вахты полярники. Мы для них - полная неожиданность и любопытное явление в их монотонной, расписанной на часы и вахты жизни. Прощаемся с экипажем баркаса, помогаем столкнуть баркас носом в сторону моря. Желаем удачного возвращения на тральщик: выход из бухточки более опасен, чем вход, так как нет пространства для маневра. В ближайшей округе бухточка оказалась единственным местом, которое использовалось для посадки и высадки людей и погрузочно-разгрузочных работ. Свою аппаратуру мы развернули в помещении метеостанции, включали ее по радиокомандам согласно таблице условных сигналов. Кроме нас в этих работах принимал участие старший инженер-лейтенант Былинкин А. (на Кольском полуострове) и инженер капитал-лейтенант Бобровский С. (на острове Диксон).
В ноябре 1958-го года испытания закончились. К этому времени погода окончательно испортилась, наступили морозы, выпал снег, вся тундра покрылась белым покрывалом. В район полярной станции наведалось громадное стадо оленей, совершенно не боявшихся людей и, по нашему мнению, совершенно бесхозное. Было, наверное, более сотни голов. Этим воспользовались "умельцы" из числа полярников и мы несколько дней питались блюдами из оленины. Среди карликовой растительности в окрестностях полярной станции из-под снега с шумом выпархивали стайки белоснежных куропаток, потревоженных человеком. Леммингов было так много, это не составляло труда ловить их прямо руками. Эти забавные и пушистые существа составляют рацион питания не только песцов, но, как говорили, часто попадают в желудок северного оленя. Ночи стали темными и ненастными. В один тихий, но пасмурный, показавшийся мне прекрасный день на траверзе Калина Носа появилось в очередной раз гидрографическое судно и наконец-то нас вывезли в Североморск.
VI
В марте 1961-го года я был назначен на должность младшего научного сотрудника 3-го отдела в/ч 77510-Д и выехал к мосту назначения на Новую Землю. Перед отъездом по моей просьбе у меня состоялась встреча и беседа в в/ч 70170 с Юрием Сергеевичем. Юрий Сергеевич указал мне горизонты моей работы в в/ч 77510, на широкие возможности проявлял. инициативу и самостоятельность, служить и работать самоотверженно, собирать вместе с тем материал для кандидатской диссертации. Эти советы оказались провидческими.
На Новой земле в силу слагавшейся обстановки нам, молодежи (в основном звании от лейтенанта до капитан-лейтенанта) поручали самостоятельное выполнение исключительно ответственных, сложных, порой опасных для жизни задач, которые следовало решать быстро, грамотно, с наибольшей точностью. Обстановка объективно приводила к необходимости сосредотачиваться и проявлять всю свою эрудицию, включать интуицию, изобретательность и инициативу, так как все без исключения задачи были нестандартными, новыми, поисковыми.
12-го апреля 1961-го года, в день триумфа Ю. Гагарина в период незаходящего северного солнца, в ослепительно солнечный день я прилетел на аэродром Рогачево и, погрузившись на ГТС вместе с попутчиками отравился в поселок Белушья. Сразу же приступил к своим обязанностям в З-м отделе Научно-испытательной части (начальником отдела до середины 1963 года был инженер-капитан 1-го ранга Бойко ЕМ.). Первое впечатление от пейзажа Новой Земли было ошеломляющим. Поражала ослепительная белизна безбрежных просторов и удивительная синева небе с ярившим дневным светилом. Воздух был настолько чист, что возникало ощущение будто он из металла: носился запах металла и при дыхании он резал дыхательные пути. Возникало ощущение присутствия в некоем медицинском хирургическом зале. почти все отмечали, и я - не исключение, что после прибытия с Большой земли на остров Новая земля наблюдалась в течение нескольких дней сильная одышка как при подъеме в гору.
В середине мая 1961 года группой, в составе инженер-капитана 3-го ранга Кузнецова В.В. (старший группы), Бараховского А., Рассказова В.В. и меня вылетели через города Москву и Омск под Семипалатинск дня приобретения опыта по организации и методике проведения камуфлетного подземного взрыва. В нашу задачу входило изучить технику забивки штольни после установки заряда в концевой камере, ознакомится с сейсморегистрирующей аппаратурой, прокладкой кобелей, коммутацией линий связи и сигнальных проводов, изучить калибровку аппаратуры и выяснить особенности эксплуатации. Готовился модельный опыт с подрывом тротилового заряда.
Вылетели мы с Новой Земли в солнечную погоду, но мела поземка температура была около 15 градусов мороза. Будучи одетыми для материка то есть в шинелях и фуражках, на аэродроме мы хорошо прочувствовали дыхание Севера. Через несколько дней уже в предгорьях Казахстана мы обливались потом и были заметно изнурены высокой температурой даже в ночное время. Рабочие комбинезоны одевали на голое тело, но и это не помогало. Вначале мы несколько дней провели и военном городке на берегу Иртыша, а затем нас транспортировали в предгорья, где в сплошном гранитном массиве горнопроходчиками прокладывалась горизонтальная штольня. Мне довелось работать со специалистами Института физики земли АН СССР Хариным Д. А.. Рулевым Б.Г., Симаковыми В., Ромашовым В.. Кузнецов В.В. и Барановский А., специализировались по автоматике. Насколько я помню, взрыв был проведен уже после нашего отъезда с Семипалатинского полигона.
VII
К концу лета 1961-го года началась интенсивная подготовка к испытаниям атомного оружия в воздухе на северном острове Новой Земли. Я входил в состав группы регистрации параметров воздушных ударных волн. Кроме меня в группу входили Коновалов С., Крикунов Е., Кошелев, Кузнецов, Назаренко М., Слепченко М., Катранов Ю.С., Бакуров Г.И.
Наша первая задача заключалась в подготовке автономных самописцев давления СД-725, их калибровка, наладка. Включение приборов происходило под воздействием световой вспышки взрыва на фотосопротивление. После подготовки приборов мы по указанию руководстве на гусеничных вездеходах (ГТС) развозили их по заранее отмеченным и оборудованным на местности точкам боевого поля, над которыми производился взрыв, устанавливали приборы в этих точках. После взрыва объезжали наши угодья, собирали эти приборы и привозили к месту базирования (это был эскадренный миноносец проекта 30-бис; затем его заменили штабным судном "Эмба"), где мы жили в период испытаний, занимались ремонтом и подготовкой аппаратуры. Если приборы попадали в зону, близкую к эпицентру взрыва, то в ряде случаем даже тщательные поиски не приводили к находкам. хотя приборы устанавливались в сооружения, напоминающие бетонные капониры. Одной из целей обработки информации заключалась в получении сведений о величине тротилового эквивалента взрыва и его координатах. Этим в Белушьей занимался мой однокашник по училищу Софронов В.В., а то время сотрудник в/ч 70170.
В это же время мне пришлось участвовать (ввиду нехватки личного состава) в расстановке кассет с пленкой, чувствительной к радиации ядерного взрыва и их сбору после взрыва. Цель последующей обработки кассет была примерно такой же, что и при измерениях параметров ударной волны. Это была весьма трудоемкая работа, так как кассет было много, а после взрыва они, видимо, или уничтожались или отбрасывались далеко от первоначального местоположения. На пересеченной местности найти их было непросто, приходилось "утюжить" тундру долгими часами. В первое время на работы по поиску самописцев н сбору кассет мы навевали химкомплект одежды, респираторы, защитные от пыли очки, но таксе "обмундирование" затрудняло работу, в особенности при осмотре местности из кабины ГТС. Потом, попривыкнув в "опасности" ввиду отсутствия а явных признаков (все взрывы проводились на большой высоте), мы потом вылезали из кабины ГТС, становились на "запятки" и, глотая пыль из под гусениц, в оба глаза рассматривали поверхность земли. Поверхность земли после взрыва вблизи эпицентра выглядела как тщательно обработанное бороной пахотное поле, на котором не оставалось ни кустика ни заметных выступающих предметов. Создавалось впечатление, что по поверхности очень тщательно и в одном направлении проходили мелкими граблями. Иногда попадались экземпляры "заторможенных" песцов с порыжелой, видимо опаленной, с одного боку шерстью, ковыляющие чайки, бакланы. Это были жертвы непосредственного воздействия ядерного взрыва.
На обед в первый период испытаний брали с собой сухой паек: мясные консервы, печенье, сгущённое молоко. Перекусывали наспех в ГТС, руки. естественно не мыли - такая потребность не приходила даже в голову. Дозиметры в виде карандаша мы имели при себе. При обследовании местности во время поиска приборов мы использовали переносные радиометры с наушниками для прослушивания радиационного фона. Среди нас бытовала спасительная версия о том, что "алкоголь выводит радиацию". Наверное, так и было.
По результатам исследования 1961-го года я был награжден ценным подарком от имени Главнокомандующего ВМФ Адмирала флота Советского Союза Горшкова С.Г. - полным собранием трудов В.Г. Власова, известного теоретика н практика военного кораблестроения. На первом томе прикреплена мельхиоровая пластинка с надписью: "Инженер-капитан-лейтенанту Борисову Г.Н. от Главнокомандующего ВМФ".
VII
В дальнейшем я принимал участие во всех воздушных испытаниях ядерного оружия на северном острове Новой Земли в районе губы Митюшиха. в том числе и в испытании сверхмощной термоядерной бомбы мощностью 50 миллионов тонн тротила. При этом испытании к моменту взрыва эскадренный миноносец с испытателями находился в Баренцевом море, далеко от зоны Д-2 - места взрыва сверхбомбы. Было удивительно тихо на море и в воздухе, стоял плотный туман. Некоторое состояние тревоги среди нас ощущалось, и оно было связано с тем, что при подготовке к этому чудовищному взрыву, не имевшему еще аналогов в памяти человеческой появились рассуждения о том, что источник энергии такой мощности может запустить процесс вселенского пожара в атмосфере, распада структуры органического и неорганического мира. Такие опасения, к счастью, не оправдались. В момент взрыва окружающее пространство, - воздух, туман - на насколько секунд приобрело светло-розовый цвет. Мы поняли, что опыт состоялся и боевое поле ожидает нас. Перед испытанием сверхмощной бомбы З0 октября 1961 года я выполнил задание инженер-полковника Завтракова А.А. сконструировать, изготовить и установить вблизи эпицентра взрыва ферму-вышку высотой 4-5 метров из подручного профильного металла для регистрации давления прямой ударной волны взрыва, еще не искаженной отражением от поверхности земли. Это задание было выполнено и я вместе с Коноваловым С. транспортировал ее трактором на санях в указанное место.
Дело происходило в темное время суток, установился слабый снежный покров, подмораживало. В кабине нас было трое - водитель-солдат, Коновалов С. и я. Ехали молча, время от времени посматривая на закрепленную стальными тросами вышку. Прибыв на место установки вышки, стали ее сгружать с саней. Распутал стальной трос и, отвязав его от конструкции, я стал рывками выдергивать его из-под груза. В один из таких энергичных рывков я почувствовал неожиданный сильный удар в левую щеку и выпустил трос из рук. Оказалось, что стальной трос, будучи освобожден из "плена" спружинил и по известным законам механики, потенциальная энергия натяжения, а я при этом усердствовал, превратилась в кинетическую энергию удара. Лицо залилось кровью. Туг и пригодился спирт для дезинфекции раны, который к счастью оказался в армейской фляжке Коновалова С. Остановить кровотечение помог и усиливавшийся мороз. Мы сгрузили нашу поклажу, а накануне опыта поместили на ее вершину прибор СД-725. К сожалению, после взрыва найти эту громадину мне не удалось.
IX
В марте - апреле 1962-ю года в межсезонье натуральных испытаний меня определили научным руководителем экспериментальных исследований эффективности разрушения сплошного ледяного покрова водоема при помощи подводного взрыва. Работу возглавлял инженер-полковник Миропольцев А.Р. Последний мне доверял полностью и ничем не связывал моей инициативы. Таксе доверие вызывал энтузиазм и рождает, как я убеждался в последующем, и бурную инициативу. Необходимо было установить оптимальное соотношение веса заряда с его заглублением под лед для получения максимального диаметра образующейся полыньи. В работе участвовали Миропольцев А.Р., Кузнецов В., Кошелев, Слепченко М., Назаренко М., еще рад товарищей. Непременными участниками всегда следует считать силы и средства инженерно-технического обеспечения, а именно: солдат и офицеров строительных частей, транспортную технику, инженерный, слесарный, монтажный инструмент, средства связи, кабели, одежду, строительные материалы, взрывчатые вещества. Все это в условиях Арктики требовало немалых усилий для обеспечения успешной деятельности испытателей. К сожалению, эти честные и самоотверженные труженики оставались в тени.
Местом проведения работ служило практически безграничное ровное ледяное поле со стороны Баренцева моря. Толщина льда была такова, что мы без опаски буксировали по нему тракторам балок с аппаратурой и снаряжением. Правда, к концу работ наступило таяние снежно-ледового покрова, он потерял первоначальную прочность, трактор иногда пробуксовывал при перевозке тяжелого блока и проседал. Кстати, прочность морского льда в настоящие морозы, пожалуй, сравнима с прочностью гранита. Становилось жутковато, когда от пробуксовывающего и проседающего в толщину ледяного покрова трактора расходились концентрические волны прогиба, весьма заметной даже глазом, амплитуды. Вся испытательная партия в этих случаях сходила на лед и толпилась на некотором расстоянии от поезда, а тракторист работал рычагами управления, имея открытой дверь кабины. Не думаю, что эта предосторожность позволила 6ы ему выбраться вовремя из кабины. Глубина моря в тех местах достигала нескольких десятков метров. Именно в таков режиме пришлось эвакуировать свое оборудование после завершения программы исследований. Сейчас, по прошествии нескольких лет, следует сказать, что только милость Природы к нам позволила избежать несчастья.
После каждого взрыва измерялся диаметр "проруби" описывалась картина разрушения льда, размеры образовавшихся ледяных глыб.
Заряд тротила укладывался в кубической формы деревянный ящик, к электродетонатору присоединяли электрический кабель. Затем вручную в заранее проделанную небольшим зарядом и обработанную пешнями майну на заданной глубине подвешивался заряд (ящик с тротилом). Крешерные приемники давления, нанизанные на стальной трос один за другим на расчетном расстоянии, опускались на некотором расстоянии от эпицентра взрыва. Подготовка этих приемников, то есть их разборка, установка свинцовых крешеров (конусные пирамидки с различной способностью к деформации, зависящей от геометрических размеров пирамидки), монтаж на стальном тросе в виде елочной гирлянды, - все это производилось в лаборатории. Существовала методика расчета максимального давления воздействующей на приемник ударной волны по величине смятия свинцового крешера и упругих свойств приемной мембраны. Вводились поправки, связанные с величиной коэффициента динамичности, которые мы в 1957 году рассчитывали под руководством Б.В. Замышляева. Измерения давления производились факультативно. Основные сведения мы должны были дать по величине "пробоины" во льду, поэтому число измерений давления было невелико. Расшифровкой показаний крешерных приемников занимался я.
Описываемая работа по вам параметрам ее исполнения являлась уникальной: место проведения - ледяные поля Арктики; погодные условия - низкие температуры воздуха сильные ветры, снежные метели и заносы, к которым необходимо было приноравливаться; вес зарядов был не малый и составлял в ряде случаев 500 килограммов. После выполнения работ, обработки и анализа результатов был написан отчет. Отчет одобрен в/ч 70170. Лично меня эта работа научила действовать в экстремальных условиях, которыми в дальнейшем и характеризовались исследования, проводимые как на Новой Земле, так и на других полигонах ВМФ.
Один показательный взрыв произвели в присутствии начальника б-го управления ВМФ инженер-вице-адмирала Фомича Петра Фомина. Здесь не обошлось без так намываемого адмиральского эффекта, то есть взрыв произошел, а регистрирующая аппаратура не сработала. Петр Фомич выразил одобрение нашим действиям, так как картина последнего взрыва с выходом в надводное пространство ослепительного столба воды, наполненного кусками льда и последующее обрушение была весьма величественным и по-настоящему красивым зрелищем. Кроме того, зрительный эффект был предварен ощутимым ударом ударной волны по ледяному покрову и воспринят нашими ногами. Оказалось, что испытатель, который уходил последним из балка нечаянно и незаметно для себя сорвал провода питания аппаратуры. Но об этом, естественно, наблюдающим не доложили. В связи с этим хочу обратить внимание на неуклюжесть нашего обмундирования. Верхняя одежда хоть и защищала нас надежно от холода, но была достаточно громоздкой. Брюки на собачьем меху размером выше пояса и на лямках, доха до колен так же на собачьем меху, меховые унты, меховые рукавицы, подшлемник и меховая шапка. Да еще теплое нижнее белье. Конечно, в таком одеянии в малом рабочем пространстве балка испытатель и не заметил повреждения.
Шел разговор о том, что результаты наших исследований будут использованы для создания полыньи в арктических льдах для возможного всплытия подводной лодки. Так ли это было в действительности, и какое практическое применение получили результаты нам осталось неизвестным.
Х
На испытаниях 1962-го года пришлось принимать участие в сейсмических наблюдениях упругих волн в грунте, возникающих при падении воздушной ударной волны на твердую поверхность земли. Измерительная точка располагалась в районе поселка Малые Кармакулы. Для установки приборов вырыли небольшой и неглубокий котлован с таким расчетом, чтобы приборы соприкасались с коренными породами. В качестве регистрирующих приборов мы применяли сейсмографы системы Кирхоса (по вертикальной н горизонтальной составляющим вектора движения поверхности земли в точке наблюдения) и вибрографы больших перемещений ВБП-200. Последние не дали никакой информации, так как изначально предназначались для измерения больших амплитуд колебания грунта до 200 миллиметров, и были выставлены затем, чтобы наверняка перекрыть весь возможный диапазон перемещений грунта. В качестве регистраторов использовали светолучевые осциллографы ПОБ-12 со светолучевыми гальванометрами высокой чувствительности.
Здесь уже были мои знакомые по Казахстану - Рулев Б.Г. и Симаков В. из Института физики Земли АН СССР. При обработке результатов измерений мне пришлось часть из них докладывать в Белушью академику М.А. Садовскому. Это была всего лишь одна из записей сейсмических колебаний грунта на осциллографической фотобумаге.
В дальнейшем опыт натурных сейсмических наблюдений на Новой земле (отчасти, и в Казахстане), тесное деловое общение с корифеями сейсмологии помогли мне в разработке проблемы сейсмического поля корабля, по частному решению которой я защитил кандидатскую диссертацию.
ХI
Зимой 1963-го года началась подготовка к проведению подземных ядерных испытаний. Зимой 1964-ю года начальник научно-исследовательского отдела инженер-полковник Миропольцев А.Р. лично мне поручил организовать и провести экспериментальные модельные исследования камуфлетного (без выброса разрушенного материала на дневную поверхность) взрыва в монолите льда. 3а работу взялся с энтузиазмом. Проблема была совершенно новая, времени на теоретические изыскания не предполагалось, работу следовало завершить в течение трех месяцев. Найти какие-либо прототипы и аналоги подобных работ в библиотечном фоне Научно-испытательной части не удалось. Мобилизовал весь свой арсенал знаний и уже появившуюся интуицию и хватку, выработавшиеся необходимостью решать технические и иные задачи в условиях недостаточной информации и ограниченны материальных и временных ресурсов. Пригодился и опыт Приозерского полигона и отеческие наставления Юрия Сергеевича.
Сначала я предполагал наморозить ледяные массивы в двухсотлитровых железных бочках, постепенно запивая их водой, проделать в них шпуры и в шпуры закладывать заряды на разную глубину от уровня дневной поверхности, при взрывах же производить измерения, необходимые для установления закономерностей. Но первые же опыты показали, что искусственно создать сплошной ледяной массив невозможно ввиду его саморазрушения (возникновения многочисленных трещин) от местной концентрации внутренних напряжений. По размышлении над создавшимся положением и, не считая его тупиковым, я пришел к спасительной мысли об использовании созданного самой природой равно-напряженного монополита ближайшего пресноводного озера в поселке Белушья. Это озеро, как показало бурение, промерзло до дна По моему представлению в силу длительного медленного процесса замерзания лед составлял сплошную равнонапряжённую среду. Слой льда в месте эксперимента имел толщину более полугора метров. Работу провел успешно, отчет был примят в/ч 70170.
Все подготовленные работы по проходке шурфов во льду и сверлению шнуров для зарядов, закладка зарядов тротила и их подрыв выполнили военные строители и делали это дисциплинированно и безукоризненно, потому они без сомнения могут считаться участниками исследования. К сожалению, в памяти не осталось их фамилий и имен. Следует сказать, что основная часть работы производилась при минусовой температуре наружного воздуха около 38 градусов по Цельсию. Через час с небольшим пребывания ха воздухе приходилось обогреваться в помещении. При такой температуре воздуха слипаются ноздри, "подгорают" от мороза щеки и нос.
Испытывал состояние высокого удовлетворения в те часы, когда полученные мною экспериментальные точки одна за другой в виде графика легли на лист миллиметровки в неких относительных единицах, учитывающих и силы тяжести, и силы сопротивления разрушению, и относительный радиус заряда взрывчатого вещества. Напрашивался вывод, что при натурном опыте ледовый массив поведет себя аналогичным образом. Это была пионерская, поисковая работе и, возможно, единственная в своем роде и чувство большого удовлетворения до сего дня не утратило во мне своей свежести. Относительно применения полученных результатов каких-либо сведений не получал.
XII
Летом 1964-го года в составе экспедиции принимал участие в подготовке, упаковке и обслуживании сейсморегистрирующей аппаратуры для первого подземного ядерного взрыва в зоне Д-9 в проливе Маточкин Шар. Устанавливали вибрографы ВБП-200, измерители массовой скорости движения грунта, пьезодатчики давления. Месте установки - до устья штoльни и в штольне - до взрывной камеры. Выдавались и свободные дни, часы, когда можно было вдоволь полюбоваться при хорошей погоде окрестностями, порыбачить, поохотиться, побродить по цветущей тундре. Маточкин Шар отличается исключительной красотой. Даже летом не растаивают многочисленные небольшие ледники. На воде резвятся пернатые, футбольными мячами отмечены те участки поверхности пролива, где любопытные тюлени пытаются осознать какой суетой заняты люди на побережье. В один из таких дней мне очень повезло на рыбалке, - одном из самых популярных (после преферанса) развлечений. Я шел вдоль берега пролива от жилого поселка в сторону Карского побережья. Время от времени забрасывал спиннинг в воду пролива, но безрезультатно. Великолепная солнечная погоде, любоваться окружающим, загорать и даже мечтать - ведь обязательный срок службы на Новой Земле у меня давно вышел и предстоял перевод на материк. Вдруг а почувствовал "зацеп"! Обычно голец - самая распространенная и желанная добыче при ловле спиннингом. Ведет себя агрессивно, делал мессу резких движений, чтобы освободиться из неволи. Но туг был иной случай и я без азарта стал сматывать леску на катушку. Итак, тяну ... И, вдруг ... не верю своим глазам: в прозрачной глади намечался силуэт добычи - голец! Что было делать? Развернулся в сторону от уреза воды, бросил спиннинг на землю, оставил и руках только леску и побежал прочь от воды, выволакивая на пологий берег изрядную тушу хищного красавца. Наверное, это был самый крупный голец из тех, что были выловлены моими товарищами - известными мне любителями рыбаками - 3 килограммов 400 граммов!
На первом подземном взрыве мне было поручено, вместе с вольнонаемным Мурзаевым Н., произвести сейсмические измерения в районе полярной станции Мыс Столбовой на входе в пролив Маточкин Шар со стороны Баренцева моря. Для связи с зоной Д-9 у нас была радиостанция, продуктов питания было достаточно на несколько дней пребывания в автономном режиме проживания. Мы с комфортом устроились в одном из пустовавших домиков. После установки приборов пали обследовать окрестности полярной станции, побережье. Иногда затапливали сохранившуюся баню и с удовольствием парились вениками из сухих морских водорослей, выброшенных волной на берег. Правда, "веники", намокнув в горячей воде, тотчас же превращались в неприглядные рыжевато-черного окраса плети, но и ими мы лихо хлестали друг друга. Почти все эти дни погода была пасмурной. дождливой, а нам было уютно у теплой топящейся печи.
В период пребывания на Новой Земле я не прекращал заниматься физкультурой, делал по утрам физзарядку, принимал холодный душ. Одно время в нашу молодежную среду пришло увлечение культуризмом и мы "накачали" достаточно рельефные мускулы. Здесь же, на Мысе Столбовом мне пришло в голову окунулся в воды Баренцева моря. Припоминаю, что говорили о том, будто в водах пролива Маточкин Шар летом 1964-го года купался заместитель начальника 6-го управления ВМФ генерал-лейтенант авиации П. Лемешко, призванный комсомолом в авиацию в тридцатые годы. В один из серых, дождливых дней вместе с Мурзаевым Н. спустился к береговой черте. Слегка штормило. А разделся, бросился в воду, отплыл на несколько метров и быстро вернулся на берег. Почему-то показалось, что пробыл в воде мало времени и должным образом не охладился. Тут же попросил Мурзаева зачерпнуть раза два предусмотрительно захваченным ведром морскую воду и облить меня с головы до ног. Наверное, эти два ведра были излишними, так как затем в течение суток я не мог согреться, все казалось, что охлаждено не только тело, но и позвоночник. Но окунание в воды Северного Ледовитого океана состоялось.
Перед подземным взрывом испытателей десантировали на морской тральщик и вывезли на безопасное расстояние в Баренцево море. В проливе уже появились многочисленные плавающие льдинки - их приносила из Карского море надвигавшаяся зима (было 18 сентября 1964-го года). После взрыва, который, как и рассчитывали. оказался камуфлетным, мы сняли приборы и кассеты с записью сигналов.
В начале ноября 1964 года я убыл к новому месту службы.
Запомнился великолепный вернисаж, устроенный осенью в зоне Д-9 инженер- капитан-лейтенантом Елгышевым Г. в нашем жилом бараке. Он предоставил свыше десяти небольших пейзажей, запечатлевших окружающую нас природу, полярные цветы, горы. Одни из пейзажей, выполненный маслом на холсте и запечатлевший южный берег пролива Маточкин Шар в осеннее ненастье я получил от Генриха Елтышева в подарок и увез на Большую Землю. Эта картина и поныне напоминает мне о первозданной красоте Арктики, о знакомых н близких мне людях и их делах, достойных называться подвигом, о6 истории далекой и близкой, титанических усилиях народа, пытавшегося приручил безрассудные силы спящего атома.
Справка: Инженер-капитан 2-го ранга Борисов Геннадий Николаевич родился 21 февраля 1934 года в г. Смоленска С ноября 1964 г. до августа 1982 г. служил на Первом Полигоне ВМФ (Эстонская ССР). С 1973 г. кандидат технических неуч. С 1975 г. звание старший научный сотруднике. В августе 1982 г. уволен в запас. С 1983 г. - в Министерстве транспорта РФ.