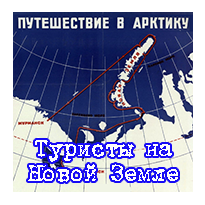Новые материалы
- Здравствуй, Новая Земля!
- Фауна млекопитающихъ Новой Земли и промысловое значеніе отдѣльныхъ формъ.
- Германская исследовательская экспедиция на Новую Землю
- Новая Земля летом 1900 года
- Жизнь животныхъ на Новой Землѣ
- Поѣздка на Новую Землю 1911 г.
- На Сѣверѣ Россіи
- О ходе работ новоземельской экспедиции Академии Наук летом 1925 г.
Воспоминания ветеранов треста "Гидромонтаж"

Подземные испытания ядерного оружия на Новой Земле
Ядерный полигон на Новой Земле был открыт в сентябре 1954 года. Этот выбор позволил проводить ядерные испытания любой мощности во всех средах, включая морскую. Именно на Новой Земле в октябре 1961 года будет проведено воздушное испытание самой мощной в мире термоядерной бомбы в 58 Мт, которое покажет американцам бесперспективность их попыток отрыва от СССР в сфере ядерного оружия и подтолкнет к заключению Договора о запрещении испытаний в трех средах, кроме подземной.
Трест "Гидромонтаж" был привлечен на арктический полигон в 1970 году в связи с принятым решением о подземных испытаниях ядерных зарядов повышенной мощности. До этого в горной гряде шахтопроходчиками пробивались штольни. Дело было налажено, и с годами был создан хороший задел на будущее. Но для зарядов повышенной мощности, в целях гарантии безопасности, потребовались несколько иные условия глубокие скважины большого диаметра. В этих целях Министерством и трестом были предприняты ряд организационных мер: приглашены специалисты реактивно-турбинного бурения во главе с М.Д. Леоновым в качестве начальника МСУ-24; в тресте созданы геологический отдел и геофизическая лаборатория, проектно-конструкторская группа; укомплектован кадрами и специальным оборудованием только что сформированный в МСУ-24 участок No 5. Высадившийся в бухте Башмачная осенью 1970 года десант буровиков приступил к оборудования производственной базы и жилого городка. Первым, в условиях полярной ночи, пошло разведочное бурение скважин Ю-2 и Ю-3 глубиной 2000 метров. Накапливался необходимый опыт выживания и работы в экстремальных условиях.
На буровых случались аварии — ломались долотья, которые надо было вылавливать из скважин; при цементировании обсадной трубы повреждался основной ствол и приходилось опускать туда людей, в нарушение всех норм техники безопасности. Однажды сгорела вся буровая установка вместе с вышкой. Аварии устранялись собственными силами, потерянное время наверстывалось уплотнением рабочего графика.
Венцом трудов на каждой скважине было успешно проведенное испытание. Главный, многомегатонный заряд был подорван в 1973 году в скважине большого диаметра на глубине 2000 метров. Его мощность широко не известна. Наблюдательный пункт был удален на 10 километров, окрестный ландшафт претерпел кардинальные изменения. В 1974 г. провели испытание на Ю-6, в 1975 г. на Ю-5 подорвали гирлянду из двух зарядов одновременно со взрывом на Ю-7. Интервал составлял сотые доли секунды, запутывая американцев, но позволяя нашим специалистам снимать необходимые параметры с каждого заряда. Подобные технологии подвигли наших противников к следующему шагу заключению международного договора об ограничении подземных испытаний мощностью 150 Кт.
МСУ-24 выполнило поставленную задачу. Начальник управления М.Д. Леонов, бывший на всех испытаниях членом Государственной Комиссии и в группе повышенного риска, был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Последнее подземное ядерное испытание провели на Новоземельском полигоне 24 октября 1990 года. С этого времени он молчит, но это не значит, что он закрыт. С 1992 года Указом Президента он определен как Центральный полигон Российской Федерации. И хотя с 1996 года в соответствии с Договором, подписанным пятью ведущими ядерными державами, прекращены испытания ядерного оружия во всех средах, состояние ядерных зарядов, стоящих на вооружении армии и флота, отслеживаются другими средствами. В оставшихся неиспользованными штольнях с макетами ядерных зарядов периодически проводятся гидродинамические, подкритические опыты в соответствии с методом невзрывных цепных реакций, разработанным академиком Ю.Б. Харитоном, моделирующим с помощью суперЭВМ протекающие при ядерном взрыве процессы.
Капитан первого ранга Г.А. Кауров хорошо описал проведение взрыва: "Все шло привычно и штатно. Наконец, сопровождаемый щелчком метронома, начался отсчет последней минуты перед взрывом. Все находящиеся на высоте 132 и не сидящие за пультами управления испытатели вышли из приборных сооружений и измерительных фургонов. Без какой-либо команды прекратились разговоры, взгляды всех устремились на эпицентральную зону горы Шелудивая.
Наконец, из динамика раздался отсчет "0", и после растянувшегося до предела мгновения, гора вздрогнула, от эпицентрального района оторвалось и, взлетев на небо, растаяло конденсационное облачко. Поверхность горы вздохнула, приподнялась и опустилась. По склонам пробежала рябь. И только после этого мы почувствовали легкий удар по подошвам сапог и покачивание земли.
Ощущение, очень напоминающее то, которое испытывает человек, прыгнувший в вертлявую шлюпку. Послышался шум схода лавин и камнепадов, а на склонах горы появились сопровождающие их клубы пыли."
Так проходили подземные испытания ядерного оружия мегатонного класса на Новой Земле. В 1968 году один такой заряд из трех не сработал, и во взведенном положении остался в штольне. Горняки проходчики называют невзорвавшуюся толовую шашку "затайкой". Эта "затайка" оказалась с эквивалентом в миллион тонн тротила. Сакраментальный вопрос "что делать?" рассматривался в Москве. Славский Е.П. принял решение вскрыть забивку аварийной штольни, подобраться к заряду и понять причину осечки. Это было важно для конструирования будущих ядерных боеприпасов и оценки боеспособности, стоящих на вооружении, но и смертельно опасно. Не глядя на это, следовало разобраться до конца, а не просто уничтожить заряд очередным взрывом. Работы были выполнены, несмотря на огромный риск, так как перед несостоявшимся взрывом все коды были сняты и уже дана была команда на подрыв, которая не прошла из-за отсутствия, как выяснилось, контакта в одном из разъемов. Все перенервничали, что иногда чревато казусами, о которых потом долго вспоминают. Руководитель операции доложил в Москву Славскому закодированным текстом прямо с места, что аккумуляторы отключены, и опасности самоподрыва нет. Среди прочего, он сообщил, что под зарядом для разгрузки его подвески на деревянном помосте лежат навалом матрасы. В ответ последовала команда работы прекратить, сообщить фамилии матросов и со стационарного узла ВЧ-связи разъяснить ситуацию. Выяснилось, что девушка-шифровальщица в напряженной ситуации перепутала одну букву, и вышло "матросы" вместо "матрасов". Поняв причину сбоя, специалисты Арзамаса-16 внесли коррективы в конструкцию и исправили уже стоящие на вооружении армии и флота ядерные боеприпасы. Позже аварийный заряд успешно подорвали.
Ядерный полигон на Новой Земле был открыт в сентябре 1954 года в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР об "объекте 700". Уже через год, в сентябре 1955 г., "объект 700" подготовили к проведению первого подводного ядерного взрыва, несмотря на условия Крайнего Севера, тяжелую ледовую обстановку. За это время построили базовый поселок Белушья Губа, аэродром Рогачево для базирования истребительного полка и транспортной авиации, морской причал. В состав специальной воинской части вошли опытно-научное и инженерное подразделения, службы энерго- и водоснабжения, средства ПВО, дивизион кораблей специального назначения, дивизион аварийно-спасательной службы, узел связи, части тылового обеспечения. Все было продумано и хорошо скоординировано. Полигон находился в ведении Министерства обороны, и конкретно Главного штаба ВМФ СССР. В связи с островным положением начальником полигона всегда был не генерал, а адмирал. С 1955 по 1990 было проведено 132 ядерных взрыва. Это в 4 раза меньше, чем на СИЯПе по числу, но по мощности на порядок больше. Все (за исключением одного) мегатонные заряды взрывали на Новой Земле, в том числе и самую мощную в истории человечества "Царь-бомбу" в 58 Мт. Мощь ее взрыва была такова, что звуковая волна дошла до Диксона за 800 километров.
Выбор Новой Земли, в качестве арктического полигона позволял проводить ядерные испытания любой мощности и во всех средах, включая морскую. Он оказался исключительно удачным, так как отвечал всем предварительно сформулированным требованиям: во-первых, отсутствие почти на 600 километров местного населения. Семьи ненцев рыбаков и оленеводов, менее 500 человек, жившие там поколениями в условиях почти каменного века (в пещерах, обитых фанерой и завешенных оленьими шкурами с отоплением от очага посреди жилища), переселили на Большую землю и там устроили. Во-вторых, относительная близость и доступность незамерзающего Мурманского порта, достаточно близкие по арктическим меркам, материковые аэродромы. В-третьих, геологическое и ландшафтное строение самих островов позволяло моделировать любые условия, а гидрометеорологические параметры и преобладающая "роза ветров" — купировать радиоактивные последствия наилучшим образом, вследствие их ухода в безлюдные районы Арктики. Назначая время каждого испытания, учитывали сводку метеорологов с тем, чтобы подгадать под очередной циклон, который закручивает воздушные потоки, направляя их преимущественно в сторону Карского моря, прочь от Скандинавии, а значит и от их официальных протестов.
В воспоминаниях участников арктической эпопеи на Новой Земле можно встретить восторженные оценки ее суровой, завораживающей красоты. Покрытую яркими цветами тундру, когда весна и лето сливаются вместе в свете незаходящего солнца. Гряды горных хребтов, блистающих вечными ледниками, быстрые речки в долинах, мгновенно, под лучами солнца, превращающиеся из безобидных ручьев в бурлящие потоки, и прозрачные, свинцово-синие пресные озера, полные рыбы. Величественные белые медведи, шествующие по-хозяйски по острову — и не только в одиночку, но и компанией, в сопровождении песцов, своих неизменных адъютантов. Их визиты к людям в поисках возможной поживы вызывали веселый переполох пополам со стрессом и рождали множество фантастических баек и анекдотов. Многие вспоминают ошеломляющие впечатления от рева птичьих базаров на недоступных прибрежных скалах где выводят птенцов и кормятся в короткий летний период до 5 миллионов разнообразных птиц, огромные лежбища тюленей, греющихся на солнце. Царскую охоту в мае на диких гусей, оленей и рыбалку на новоземельского гольца – исключительно вкусную и нежную рыбку. К этому следует добавить штормовые ветра и затяжные метели по 200 дней в году, многомесячную черноту полярной ночи, изоляцию в узком круге людей, однообразное консервированное питание и работу трехмесячными вахтами под постоянным психологическим прессом сроков, которые нельзя срывать. Арктика принимала и влюбляла в себя только сильных духом и телом людей, морально и психологически здоровых. Слабые, склонные к панике и неуживчивые индивидуумы долго не выдерживали и под разными предлогами уезжали.
Изначально были определены три зоны проведения испытаний воздушных, надводных и подземных. Опытное поле, выбранное для подземных испытаний в штольнях, именуемое "Северная площадка", находилось в предгорьях хребта на берегу 3-километрового пролива Маточкин Шар, в долине реки Шумилиха. "Южная площадка", предназначенная для испытаний в глубоких скважинах, находилась в бухте Башмачная, гораздо ближе к новоземельской столице городку Белушья Губа в обиходе, ласково называемому "Белушка". Добираться к обоим полигонам можно было только морем. Штолен было построено много, а использовали лишь 36: резерв на будущее остался. Переход к скважинам в начале 1970-х был обусловлен рядом соображений, среди которых сыграли роль их меньшая затратность и большая надежность.
Для сверхмощных взрывов из сверхглубины
В середине 1970 года в Минсредмаше прошло установочное совещание по решению Правительства о проведении на Новой Земле подземных испытаний мегатонного класса, помимо штолен, в глубоких скважинах. Начальник 12 Главка А.С. Пономарев сообщил, что проведение работ на полигоне поручается тресту "Гидромонтаж", имеющему опыт работ подобного профиля на Семипалатинском полигоне. Геологическую разведку, предполагавшую бурение разведочных скважин, также отдали тресту параллельно с основной задачей подготовкой испытательных скважин. Начальник треста Я.А. Кузнецов доложил, что трест способен выполнить порученные работы. В отделе главного технолога Вальковского В.В. срочно была создана группа по проектированию скважин большого диаметра, совместно со специалистами МСУ-24, где начальником был Р.С. Газматов, имевший опыт буровых работ в нефтяной промышленности. Одновременно организуется специализированный участок № 544, который будет базироваться в бухте Башмачная, имеющей морской причал. Отделы кадров треста и МСУ-24 разыскали по всей стране опытных буровиков из смежных отраслей народного хозяйства. Для новых сотрудников Селятино было зарезервировано жилье. Первым начальником участка № 5 назначается Н.А. Щербань, прибывший с группой буровиков из Белоруссии.
В начале 1971 года в МСУ-24 был сформирован геологический отдел и геофизическая лаборатория, которую из-за нехватки помещений временно размещают в переоборудованной квартире в только что введенном доме № 20. Впоследствии под лабораторию отдадут целый этаж в пристройке турбинного цеха. Следует отметить творческую работу трестовских кадровиков под руководством А.И. Лебедева, сумевших в кратчайшие сроки укомплектовать квалифицированными кадрами совершенно новое для треста подразделение гическую службу. В геологическом отделе много лет успешно работали геологи И.Т. Лебедев, Л.В. Глухов, Н.В. Круглов, гидрологи М.З. Чингилян, Н.Т. Беликова, Н.М. Изотова, геофизики В.В. Тараданчик, С.А. Жуков, С.С. Кузнецов, А.Д. Лапин, Р.М. Давлетшин. По словам начальника геологического отдела треста Ивана Титовича Лебедева, этими творческими людьми совместно с институтом ядерной геофизики (ВНИЯГ) были разработаны новые геофизические приборы для исследования скважин большого диаметра, не имевшие аналогов в промышленности. Их права защищены тремя авторскими свидетельствами на изобретения.
Специальная сейсмоакустическая аппаратура, получившая наименование "Гранит", сыграла важную роль при подготовке скважин. Она позволила увеличить их глубину на несколько сот метров против проектной (1500 метров). Это было важно при подрыве особо мощных зарядов, гарантированно обеспечивая безопасность строений в Архангельске и Мурманске. В каждой испытательной скважине проводились геофизические исследования для построения геологического разреза и параметров скважины глубины, диаметра, вертикальности. В зоне подвески ядерного заряда отбирался керн, образцы которого исследовались в Центральной лаборатории Министерства в городе Электросталь. К работе привлекались специализированные институты и крупные ученые. Геологическая разведка, проведенная трестом "Гидромонтаж", позволила построить геологическую модель территории, обосновать выбор участков заложения испытательных скважин глубиной более 1500 метров, диаметром более 1 метра и выполнить программу испытаний ядерных зарядов большой мощности. С поручением Министерства по организации нового для себя направления трест в очередной раз справился, доказав, что там, где нет готовых решений, их нужно изобрести. Для проведения работ с использованием технологии реактивно-турбинного бурения (РТБ), требовались специалисты, хорошо с ней знакомые. Родоначальники этого метода находились на Донбассе. Поэтому из Донецкого треста "Спецшахтобурение" были приглашены на должность начальника МСУ-24 его управляющий Михаил Дмитриевич Леонов и группа отобранных им ведущих специалистов.
Трудовые будни на краю земли
В короткие сроки участок No 5 на Новой Земле был укомплектован кадрами, обеспечен буровыми установками, геофизическими приборами и всем прочим оборудованием. Высадившийся осенью 1970 года десант буровиков из Селятино первым делом приступил, совместно с генподрядчиком, к обустройству технической базы и жилого городка, начал активно готовиться к зиме, к обильным снегопадам и сильным метелям. Два мощных "Урала" и тракторы-тягачи обеспечивали зимние дороги для доставки топлива, для чего сконструировали "пони-сани" с 12-кубовой емкостью. Жилые вагончики поставили в каре и накрыли общей крышей, получив удобный вахтовый поселок прямо на разведочной скважине Ю-2, с баней, столовой, кинопередвижкой. На основной базе построили казарму с приемлемыми условиями для жизни и с хорошим питанием. Жилье было обеспечено автономным отоплением, электроснабжением, водой. Было начато разведочное бурение скважин Ю-2 и Ю-3 глубиной 2000 метров. Накапливался необходимый опыт и работы в экстремальных условиях, враждебных человеку.
Вот как передает свои впечатления Анатолий Григорьевич Харыбин, прибывший в марте 1971 года из жаркого, степного Азгира, где он также бурил скважины под ядерные заряды, на Крайний Север в качестве начальника 5-го участка: Первые впечатления после приземления на собственной базе в бухте Башмачная столько снега! Вся колесная техника под снегом по одной из машин прошелся трактор. Казармы по крышу занесены. Дорогу на площадку скважины пытаются расчищать бульдозером, но это только усугубляет снегозадержание в создаваемых траншеях — сказывается отсутствие опыта в условиях Крайнего Севера в первую зиму. Но высаженный десант из молодых специалистов, тем не менее, делал все возможное, чтобы разведочная скважина Ю-2 медленно, но углублялась.
Белые медведи изредка навещали, к счастью, без особых эксцессов. Хотя и был случай, когда дизелист В.А. Кульков пошел подкачать дизтопливо в расходную емкость, и его пытался преследовать молодой медведь, но, заметив выскочивших из помещения буровиков, рванул назад. В связи с этим я обратился к начальнику полигона, и нам доставили два ящика сигнальных ракет и ящик фальшфейеров, которые разделили по площадкам. В середине февраля в южной части нашего острова появились северные олени, на которых мы охотились совместно с соседями из ПВО, используя гусеничные транспортеры – пожалуй, самую лучшую плавающую технику для полярных условий. В первой половине мая прилетали гуси трех видов, которые умудрялись построить гнезда в начале июня, вывести птенцов и поставить их на крыло в сентябре. Кроме того, в мае, вместе со сходом льда на озерах, появлялась возможность для прекрасной рыбалки на гольца и палию.
Образно и ярко описал свои впечатления от Арктики буровой мастер, кавалер ордена Трудовой Славы III степени Айзатулов Альфрид Иванович, отдавший этим краям 5 лет жизни: В 1972 году, в апреле, я прибыл на Новую Землю. Только что Москва проводила вешним солнцем, теплом, первой зеленью, а ты уже выходишь в северном аэропорту, утонувшем в снегу. И местные пушистые здоровые собаки встречают и провожают самолеты. Большой поселок Рогачево, освистанный пургой и продубленный морозами на берегу Баренцева моря. В 14 километрах от него поселок Белушка встречает, обжигая скулы, поземкой. Сугробы на уровне крыш.
Больше всего поражает в Арктике простор, распахнутость пространства. В средней полосе первыми весной прилетают грачи, а здесь кругленькие беленькие птички пуночки. Сначала они появляются поодиночке, но с каждым днем их становится все больше. Они стайками вьются возле домов, ищут, чем бы подкормиться. В начале мая может начаться жесткая пурга и принести пуночкам беду. В такую пору мы находили возле своих домов мертвых птиц. Трудно быть первым в этих краях. С появлением проталин прилетают кулики и чайки, поморники и трясогузки, делают гнезда прямо под ногами на тропе человека. Остров на глазах оживает. На морской лед там и сям высыпают нерпы. В середине мая потянулись гуси. Они пролетают низко над землей с юга на север, как правило, в густом тумане. Весной здесь всегда туманы. В конце сентября они улетают. С океанского простора подходят белые медведи, посещают поселки. Однажды медведь даже поднимался по трапу корабля, на котором мы уходили в Мурманск...

На буровых иногда случались аварии: ломались долотья, которые надо было вылавливать из скважины; при цементировании повреждалась труба, при подъеме роняли вышку. Вспоминает Иван Титович Лебедев: В аэропорту их встретил вице-адмирал, поздоровался за руку. Обычно приветливый, на этот раз был бледен и строг. Он нам сказал, что хотя установка и сгорела, но срока ввода скважины переносить не будет. В готовности были вертолет и два военных следователя просчитывались все варианты, в том числе и диверсия. Облетели площадку буровой, она выглядела черным пятном среди снегов, мачта была наклонена. Позже узнали, что буровой мастер, увидев вертолет, решил, что это за ним, и убежал в тундру. Хотя куда там убежишь?
По каждому случаю ответственным руководителям и всем причастным приходилось писать объяснительные в особый отдел. Правда, объяснения принимались без видимых последствий. Скорее всего, накапливалась критическая масса. Аварии устранялись собственными силами, упущенное время наверстывалось. Однажды сгорела буровая вышка. К ликвидации последствий пожара на буровой вышке подключился сам Я.А. Кузнецов. Он где-то срочно нашел старую буровую вышку, ее привезли, довели до ума за две недели и установили. Иногда для выяснения причин технических сбоев приходилось спускаться в трубу, что было грубым нарушением техники безопасности и создавало угрозу жизни.
Например, бурильщик 5-го участка Николай Федорович Ерин рассказал, что при цементировании колонны на Ю-5 она была смята. Пришлось откачивать раствор и опускать для обследования и выяснения всех обстоятельств отважных и рискованных работников. Это были Беликов Александр Александрович и Хворостян Николай Николаевич. Ответственность за их жизни брали молодые бурильщики Сатуев и я. Тогда нужно было выполнить задание, и никто не задумывался над последствиями при отрицательном исходе данного мероприятия. За время подготовки скважины Ю-5 бывало, горели, ликвидировали три аварии при бурении и одну при снятии колонны. Перетащили тысячи тонн цемента и ЖРК (железорудный концентрат забивочный материал). При подъеме вышки, из-за неопытности механика-водителя чуть было не уронили ее, разворотив при этом крепление одной ноги. Спасали в зимнее время жизнедеятельность поселка при выходе из строя водяного насоса. Каждый прожитый день приносил и тревоги, и радость. Все это могли выдержать только здоровые и телом, и душой люди.
Венцом трудов на каждой скважине было успешное проведение испытаний. Прибывала Государственная комиссия, неизменным председателем которой был Георгий Александрович Цырков – начальник 5-го оружейного Главка Минсредмаша, отвечавшего за испытание ядерных боеприпасов. Как говорят участники испытаний, Г.А. Цырков был человеком необыкновенного обаяния и эрудиции. Видный ученый в области прикладной газодинамики, доктор технических наук, лауреат Ленинской и двух Сталинских премий, Герой Социалистического труда. Как член Государственной комиссии всегда участвовал в испытаниях М.Д. Леонов, входя в группу повышенного риска. Александр Александрович Беликов о завершающих операциях перед взрывом рассказывает: Хорошо помню, как выкатили из ангара на тележке бомбу, похожую на обычную торпеду. Ее собирали разработчики, заходя в ангар на 20-30 минут. Однажды, когда спускали бомбу в ствол, на самом последнем стыке сорвалась резьба, и лопнул один из кабелей. Но все исправили, и изделие мощностью более 100 Кт подорвали.
После проверки готовности объекта там оставалась команда испытателей и члены Государственной комиссии. На подстраховке находились вездеходы с заведенными моторами и вертолет. Весь остальной личный состав полигона эвакуировался на теплоходе на противоположную сторону острова в Карское море. Такой порядок стал следствием самой крупной на Арктическом полигоне нестандартной радиационной ситуации (НРС) 14 октября 1969 года. Тогда, после подземного взрыва, через разлом в породе на поверхность вырвалась струя радиоактивного газа и пара. Уровень гамма-излучения подскочил до нескольких сотен рентген/час. Более сорока минут под его воздействием находилось 344 человека персонала, 80 человек из которых получили разовую дозу более 40 рентген. Через 5-6 суток проводился облет участка на вертолетах. Земля была неузнаваема: где было озеро возвышается сопка, а где была сопка организовалось озеро. Запах сероводорода долго преследовал людей, геологи считали это результатом разложения пирита, которого было много в залегающих породах.
Ценные воспоминания, ярко рисующие то время, оставил Александр Николаевич Чумаков, в то время бурильщик 7 разряда, переведенный на Новую Землю с Семипалатинского полигона: Начальником участка №5 на Новой Земле тогда был Кравцов, с которым осталось как-то мало ассоциаций. А вот главный инженер участка А.А. Беликов — человек запоминающийся, широкой души, общительный, творческий, самобытный. Он нестандартно мыслил, вечно что-то изобретал. И теперь, спустя годы, особенно хорошо понимаю мне крупно повезло, что в молодости довелось поработать под его руководством. Повезло и с доставшейся мне бригадой, в которой все без исключения были трудолюбивые и отличные специалисты. Но особенно в ней выделялись два старших помбура. Один из них — рассудительный, жизнерадостный, с тонким чувством юмора М.И. Симаков. Другой — тоже юморист, никогда не унывающий, прикольный Виктор Попугаев. Симаков был постарше нас, к тому времени уже окончил технический институт, являлся парторгом на участке и занимал активную жизненную позицию. Жаркие и продолжительные дискуссии с этим заядлым собеседником были для меня особенно ценными. В последующем именно он и А.А. Беликов дадут мне рекомендацию в партию, когда я решу поступать учиться на философский факультет МГУ.
Запомнилась здоровая атмосфера в целом на участке, когда работалось легко и с огоньком, что, несомненно, было результатом умелого руководства со стороны многоопытного и доброжелательного Сан Саныча (так мы звали А.А. Беликова). Не было недостатка внимания и со стороны руководства МСУ-24. Часто приезжали А.Г. Харыбин, В.П. Коротков, М.Д. Леонов, так что заброшенности или оторванности от Большой Земли не чувствовалось. Суровые условия Крайнего Севера, где высоко ценятся сплоченность и взаимовыручка, накладывают особую печать на человеческие отношения. Как-то особенно отложилось в памяти зимнее ненастье и поездки на буровую на смену и обратно. В это время обычно постоянно дует ветер, как в аэродинамической трубе, усиливая и без того не слабые морозы. Зачастую он перерастает в вариант, когда надолго перестают летать вертолеты, связь с Большой землей обрывается. Дорогу найти при такой погоде, когда любые следы или колею заметает в считанные минуты, можно только каким-то чутьем. Таким чутьем как раз и обладал немногословный, но весьма проницательный Виктор Харобин, возивший нас на грузовом "Урале", крытом брезентом, а в особо сложных условиях, на танкетке — вездеходе на гусеничном ходу.
Было немало и экстремальных эпизодов, иногда на грани фола. Так, однажды ясным зимним утром, когда на буровой заканчивалась очередная смена, в отдалении на побережье показались два белых медведя. Они приблизились к буровой, и стало видно, что это медведица с великовозрастным медвежонком, который был немногим меньше матери. В то время, когда медведица пошла в сторону моря, медвежонок был от буровой на расстоянии метров 150-200. Желая покормить его, мы с В. Попугаевым взяли рыбу и, подойдя к медведю метров на 40, бросили ее в его строну. Однако того заинтересовала не рыба, а мы. И он, ускоряя ход, пошел в нашу сторону. Мы бросились убегать... Быть может, пар из проходившей неподалеку паровой трубы, расстилавшийся над землей, остановил медведя. Добежав до него, он встал на задние лапы. На мой вопрос Попугаеву, когда мы отдышались, почему он, ничего не сказав, рванулся убегать первым, Виктор, в привычной для него манере, не задумываясь, парировал: "Санек, я побежал за ломом..." Получив закалку Севером, люди обычно по-другому воспринимают перипетии обыденной жизни. С юмором, а то и с иронией относятся к непрофессиональным суждениям.
Александр Николаевич Чумаков, ко всем своим талантам, обладает поэтическим даром и в молодые годы писал стихи. Читайте их в его воспоминаниях о полярной одиссее. Приведем лишь несколько строчек из стихотворения, родившегося экспромтом в самолете при возвращении с Новой Земли как ироничный ответ на публикацию в свежей центральной газете девушки-корреспондентки, побывавшей на нефтепромысле и захлебывающейся от романтического восторга от работы на буровой:
Городов немаленьких коренные жители
Весело проводите вы в барах вечера.
Так чего ж трезвоните, как колокол в обители,
И сыплете романтикой, ну прям из-под пера?!
Эх, корреспондентки! Вас бы в буровую,
Да сменить бы парочку роторных валов...
Вот тогда б запели вы песенку иную
И вышибли б романтику из своих голов!
Северный полигон: 35 лет работы
Главный многомегатонный заряд был подорван в 1973 году в сверхглубокой скважине (2000 метров) большого диаметра. Его мощность найти не удалось. Известно только, что она уступала лишь чудовищной "кузькиной матери". Наблюдательный пункт был удален на 10 километров. Окружающий ландшафт претерпел кардинальные изменения.
В 1974 г. провели испытания на Ю-6, а в 1975 на Ю-5 подорвали "гирлянду" из 2 зарядов одновременно со взрывом на Ю-7. Интервал между взрывами составлял сотые доли секунды, запутывая американцев, но позволяя установленными приборами снимать необходимые параметры с каждого заряда. Проведенные успешные испытания подвигли США к заключению Международного договора об ограничении мощности подземных испытаний мощностью 150 Кт. Замечено, что они всегда становятся сговорчивыми, когда чувствуют свое бессилие. МСУ-24 с честью выполнило поставленную задачу. Начальник управления М.Д. Леонов на всех испытаниях был членом Госкомиссии, награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Последний подземный ядерный взрыв прогремел на Ново-Земельском полигоне 24 октября 1990 года. Отработав 35 лет, Северный полигон оказался гораздо менее загрязненным радиоактивными осадками, чем Семипалатинский, хотя совокупная мощность энерговыделения была на порядок больше. Это объясняется высокой долей термоядерности (97%), когда смертоносных для всего живого продуктов распада цезия-137 и стронция-90 выделяется намного меньше, чем в плутониевой или урановой бомбе. При подземных испытаниях из 39 взрывов лишь в двух случаях наблюдался НРС выход на поверхность радиоактивных продуктов и только в виде газов и пара.
С 1990 года полигон молчит, но это не значит, что он закрыт. В феврале 1992 года указом Президента он определен как Центральный полигон Российской Федерации. С 1996 года в соответствии с договором, подписанным 5 ведущими ядерными державами, прекращены испытания ядерного оружия во всех средах. Но необходимо отслеживать состояние ядерных зарядов, стоящих на вооружении армии и флота, вести научно-исследовательские работы в этой сфере. Поэтому единственный в России ядерный полигон функционирует. В оставшихся неиспользованными штольнях с макетами ядерных зарядов проводятся гидродинамические или подкритические опыты. Метод невзрывных цепных реакций, разработанный академиком Ю.Б. Харитоном, способствует поддержанию российского ядерного арсенала в надежном и безопасном состоянии.
В декабре 1995 года на Центральном полигоне были проведены первые не ядерно-взрывные эксперименты. Процессы, протекающие внутри ядерного боеприпаса, требуют постоянного контроля. Помимо старения и изменения свойств самого ядерного материала, надо также следить за механическими и электронными узлами изделия. Разработанная технология подкритического эксперимента позволяет, с помощью быстродействующих ЭВМ, моделировать протекание взрывных процессов и оценивать мощность заряда. Так действуют и Соединенные Штаты, хотя там и не исключают возможности возобновления реальных испытаний. Не случайно договор от 1996 года ими не ратифицирован. Сейчас они полным ходом ведут исследовательские работы по конструированию 4-го поколения мини-зарядов мощностью до 100 тонн тротилового эквивалента для боеголовок своих противоракет в рамках создаваемой системы противоракетной обороны (ПРО). Эксперты считают, что оснащение противоракет такими зарядами (сегодня расчет на прямое попадание) многократно повысит эффективность перехвата баллистических ракет, обесценивая, таким образом, российский потенциал ответного удара и создавая иллюзию успешности "обезоруживающего глобального удара" по России тысячами высокоточных крылатых ракет. Для надежности теоретических расчетов им необходимо провести серию реальных взрывов. В этих условиях Россия должна быть готова к любым поворотам, поддерживая базовый потенциал для возможного возобновления испытаний новых образцов ядерного оружия на случай выхода РФ из договора. В том числе и зарядов для войск ВКО (воздушно-космической обороны), для надежного уничтожения баллистических целей.
Белушья Губа, столица полигона, сегодня не выглядит заброшенной. Чистенькие, отделанные цветным металлическим сайдингом дома яркими пятнами возвышаются над серо-черной и хмурой тундрой. В поселке функционирует школа на 580 учащихся, детский садик, спорткомбинат с плавательным бассейном. В магазинах военторга всегда есть свежие овощи и фрукты, цены ненамного выше московских. Действует спутниковое телевидение, телефоны в квартирах подключены к интернету.
Ядерный щит России снова начищен.
Глава из сборника "Солдаты холодной войны.
Хроники оборонного предприятия "Гидромонтаж"